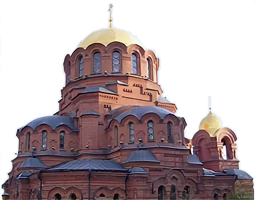[12.02.2015] Революция человека
 Послерождественский период святых дней или, как их называют чаще, святок - период особой торжественности для Церкви. Это теперь слово "святочное" стало синонимом беззаботного веселья, наступающего с окончанием поста; древние же имели здесь правило чтить память мучеников и особенно известных святых. Вполне оправданным выглядит появление в литургическом календаре имен Трех святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, как выдающихся, вселенских, т. е. имеющих значение для всех народов и всех времен учителей и святителей. Три памятных даты сходятся вместе, хотя и непреднамеренно, а скорей промыслительно: дни преставления Василия (1/14 января) и Григория Богослова (25 января/7 февраля), день перенесения мощей Иоанна Златоуста (27 января/9 февраля). Итогом же их становится соборное празднование в память всей славной когорты 30 января/12 февраля.
Послерождественский период святых дней или, как их называют чаще, святок - период особой торжественности для Церкви. Это теперь слово "святочное" стало синонимом беззаботного веселья, наступающего с окончанием поста; древние же имели здесь правило чтить память мучеников и особенно известных святых. Вполне оправданным выглядит появление в литургическом календаре имен Трех святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, как выдающихся, вселенских, т. е. имеющих значение для всех народов и всех времен учителей и святителей. Три памятных даты сходятся вместе, хотя и непреднамеренно, а скорей промыслительно: дни преставления Василия (1/14 января) и Григория Богослова (25 января/7 февраля), день перенесения мощей Иоанна Златоуста (27 января/9 февраля). Итогом же их становится соборное празднование в память всей славной когорты 30 января/12 февраля.
Предание о происхождении последнего торжества, как и сама традиция объединять как бы в одно целое три безусловно самостоятельные и оригинальные исторические фигуры, глубоко символичны. Известно, что праздник Трех святителей был установлен довольно поздно, в конце XI в., при византийском императоре Алексее Комнине. По одним данным, это случилось в 1084 г., а по другим - в 1092 г. К этому времени среди жителей Константинополя существовали различные мнения о том, кого из отцов почитать более высоким по званию. Одни отдавали предпочтение Василию Великому, другие, как на главные, указывали на заслуги в догматике, принадлежащие Григорию Богослову, на третьих же и спустя многие века самое сильное впечатление производила широкая народная проповедь Иоанна Златоуста.
Так часто случалось в византийской истории, что благочестивое стремление от распри отделял один шаг. Заслуги великих отцов и приверженность памяти их разделили обитателей царствующего града на непримиримые партии иоаннитов, василиан и григориан, оспаривающие друг перед другом свою правоту. Истина же открылась митрополиту малоазийского города Евхаит Иоанну Мавроподу, "ученейшему мужу" этого времени. Святые явились вместе и сами засвидетельствовали, что едины в своем служении и равны между собой. Во избежание пререканий они повелели установить праздник одновременно в честь троих. Иоанн по следам этого чуда написал службу и похвальное слово, которое должно было читаться на службе. Датой торжества был выбран день 30 января, т. к. каждый святитель незадолго перед тем вспоминается по отдельности: Василий Великий - в самом начале месяца, а Григорий Богослов и Иоанн Златоуст - в последние дни января.
Близость имен и величина заслуг перед Церковью их осознавались и раньше. Первые два были близкими товарищами, проводили юношеские годы вместе и в дальнейшем оказывают поддержку друг другу, отстаивая учение о Боге как Троице. Для Златоуста же оба предшественника представляют как бы живую легенду и предмет искреннего восхищения: знаменитый проповедник множество раз ссылается на речения "блаженнейших, превосходнейших Василия и Григория", воздает хвалу им и ставит в пример подражания. При нем еще свежи остаются воспоминания о смуте, поднятой арианами, новом притеснении православных и победном II Соборе 381 г., провозгласившем, наряду с богословием Отца, Сына и Святого Духа, святость Василия. Все же сообща святители представляют единое время и единую проблематику "христианства в эмпирии" и должной организации церковной жизни, каждый по-своему давая ответ в жизни и служении - ответ, тем не менее, состоящий в едином свидетельстве о Евангелии как устремленном не только в области идеальные, неземные, но плодотворном в т. ч. и в общественном, культурном, личностном отношениях.
В глазах окружающего общества IV в. Василий, Григорий, Иоанн - представители как бы некоей новой породы людей, "племя молодое, незнакомое", вырастающее над существующими обычаями и представлениями и задающие новые пределы стремлений. С ними открывается второй и наиболее продолжительный этап новозаветной истории, специфику которого нельзя считать исчерпанной и поныне: этап терпеливого взращивания, вопреки плевелам, пшеницы до жатвы. И если первым векам обильного сеяния больше всего отвечали путеводные типы Петра и Павла, Трем святителям удается лучше всего быть собирательным символом "исторического", "культурного", "цивилизационного" христианства. Того христианства, которое, несмотря на превратности и отступления последних лет, все еще продолжает определять судьбы народов и земной лик, спасает и составляет смысловую основу текущего времени, которое в плане церковного архетипа может быть коротко названо временем трехсвятительским.
Ранее нам уже доводилось говорить, что историческая традиция христианства - это, вообще, всегда связь личностных прецедентов, образцов исповедания. Только потом, во вторую очередь она являет себя тождеством догматических определений, богословских подходов, организационным преемством. Главное - это то, что для первого церковного поколения Петр, Кифа (Камень) выступает как прямой символ и продолжение Камня-Христа; что и Ириней во II в черпает церковную истину в воспоминаниях об апостольстве Иоанна и Поликарпа, а патриарх Фотий, Палама и Марк Эфесский, выстраивая для византийского Средневековья линию защиты от католической унии, сознают прямое сходство с настроем отцов древности, их борьбой за Православие.
По этому поводу в одном из своих посланий первоверховный и славный Павел так отзывается об апостольском преемстве, его психологической, экзистенциальной и ценностной, если говорить современным языком, основе и сути. "В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе", - говорит он (Флп. 2:5). Если так, традицию, представленную единством чувствований во Христе поколений, лучше всего представить как ряд выдающихся человеческих или, вернее, богочеловеческих образцов, каждый из которых ведет и определяет собой соответствующую эпоху. Водоразделы времен создаются жизнью и деятельностью великих святых. И наоборот, периоды кризисов, оскудения в обществе, "уныния народов и недоумения" (Лк. 21:25), как у нас теперь, обычно случаются, когда в продолжение значительного времени яркие духовные личности не приходят, а актуальный для данного времени образ евангельского исповедания остается для современников не узнан, закрыт.
Новозаветную историю можно сравнить с чередой вспышек сверхновых. Свет от них сперва остро прорезывает сумрак, бывает виден и днем, а затем понемногу спадает, и картина неба приобретает привычный свой вид. Так в бездне времен, из среды напряженного поиска и какого-то мучительного диссонанса эпох раз от раза звучит торжествующее христианское: "эврика!" - "нашел!" Нашел Христа, Его силу, Его Божественность - и вперед выступает некто, чьим образом и чьими деяниями, как от освежающего источника, предстоит напитываться ученикам и последователям, ближайшим потомкам. Мощный духовный всплеск озаряет бытие человечества, окрыляет, побуждает стремиться дальше, дает вдохновение и смысл начинаниям - вот что стоит за хрестоматийным историческим рядом событий: апостольство, мученичество, зарождение монашеского движения, догматический поиск и борьба против ересей...
Грандиозный и сложнейший переход в истории христианства - переход от эпохи гонений к мирному сосуществованию с Империей. Это время взыскует особого подвига тех, на чьих плечах оказывается бремя церковного строительства, новых неразрешенных вопросов, противоречий, опасностей. Недаром по обилию дарований и подвигов этот период принято называть "золотым веком христианства", "эпохой великих отцов". Одно только перечисление имен приводит в глубочайшее восхищение: святые Афанасий, Антоний, Пахомий и Макарий Великие, Кирилл Александрийский, Амвросий Медиоланский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Августин Блаженный, Ефрем Сирин... Современники и участники общих событий, они промыслительным образом дополняют и поддерживают друг друга, служат удостоверению правоты, нередко оказываются связаны между собой отношениями прямого наставничества, ближайшего товарищества. Православие, такое, каким мы его знаем теперь - в значительной степени плод их трудов и свидетельство их опыта.
Существующая историография, к сожалению, крайне субъективно передает существо и отличительные особенности периода, наступившего с Константиновым эдиктом 313 г. Сказать, что на этом для христианства прекращаются многовековые преследования, что наступает время православного самодержавия, как и отмечать всеобщее увлечение философскими концепциями, постепенное обмирщение нравов - то, что в Церковь по стопам василевса начинает вступать большое количество "номинальных верующих", - означает не сказать почти ничего. Ибо меняется сам ракурс, под которым христианское сознание рассматривает себя самое и свое существование в мире. Меняется содержание духовного выбора. Свидетельствовать Христа перед языческой государственной властью - этот проверенный сценарий подвижничества больше не действует. Добродетель же, проявляемая христианами в обстоятельствах мира, в общественном окружении, не так проста, как может казаться на первый взгляд.
Опыт свидетельствует: за ревностным исполнением религиозных обязанностей легко укрывается тщеславие, за жертвой - тонкая гордыня, за учительством - властолюбие и т. д. Обильная милостыня, вопреки желанию, пособствует тунеядству, строгая воздержанность - тайным грехам и уклонению в гностические радения, молитва о благополучии - магическим суевериям. Имущество отныне на законной основе может принадлежать христианским общинам, что требует от церковных служителей умеренности и рассмотрительности в управлении. Пресвитеры за постоянством приходских обязанностей отправляют таковые уже на профессиональной основе, за вознаграждение, образуя особое духовное сословие. Господа и рабы, имперские сановники и подчиненные, встречаясь за богослужением, не могут вполне отрешиться от существующих отношений иерархии, необходимости вне стен собрания исполнять соответствующие общественные обязанности. Церковь же в свою очередь не считает вправе настаивать на всеобъемлющей социальной реформе, например, на отмене рабства, но лишь на смягчении нравов, проявлении евангельской любви в ближайшем кругу. Ибо проповедь христианской свободы и равенства, утопически поставленная вне всякой зависимости с внутренней готовностью каждого, скорее бы произвела бунт и анархию, чем желаемое торжество совершенных отношений.
По этой же причине принципиальными для Церкви оказываются отношения с государством. Ведь общество одновременно является объектом и церковной проповеди, и государственного управления. Для светской власти это "подданные", для духовной - "миряне". При всех недостатках византийской государственности, перешедших еще от античного, римского времени, христианство вынуждено брать на себя роль примирителя и апологета постоянного порядка. Монахи и церковнослужители сначала останавливают антиохийцев, восставших против высоких налогов и сбросивших статуи Феодосия, впоследствии же умоляют о преступивших закон и всячески уменьшают вину их для смягчения наказания. Увы, имперской власти недостает своего ответного такта и предупредительности. Как обладающая абсолютным превосходством прав и возможностей, она берется руководить, зачастую довольно назойливо, обустройством в т.ч. и нового церковного института.
Вообще, нужно заметить, что начало византийской истории - это еще очень не устоявшееся время, закат античности и начертание новых надежд и планов. Запад империи сотрясают удары варваров, столица переносится на Босфор. Удрученное упадком величественного pax Romana, общество требует чуда от Церкви, желает скорее услышать рецепты оздоровления. Огромному множеству новообращенных: от рабов и торговок до военачальников и придворных сановников, от высокоученых философов и риторов до врачей и бывших языческих жрецов - это сообщает некое преувеличенное, экзальтированное и вместе суеверное пристрастие к богословским вопросам, внутрицерковной политике и борьбе. Положение Православия в IV-V вв. от этого оказывается противоречивым и сложным. Видна крайняя пестрота форм. Еще не остывшие романтические мечты о реформе и обустройстве идеального общества соседствуют здесь с самым крайним монашеским ригоризмом по отношению к миру. Чередуются падения и взлеты, пробы и ошибки совершаются всеми и повсеместно...
Не существует единого истолкования вероучения, не всегда можно проследить, кем и как поставляются пресвитеры и епископы, сложны взаимоотношения поместных церквей, разнится обряд и даже совершение празднеств, включая главнейшее, Пасху, не совпадает по срокам. Только недюжинная духовная зоркость может различать во всем этом очертания сходства - необходимых качеств церковности, евангельских максим, апостольского преемства. Духовная свобода, принесенная Христом, оборачивается тяжелейшим испытанием для исторических цивилизации и культуры. Опаснейшая ересь Ария, возникшая в начале IV в., наверняка не приобрела бы своей роковой силы, не побуждайся она предлогами наведения необходимого порядка, преодоления разночтений, христианского согласия и благоустройства.
Весь предыдущий, III век не прекращаются споры о Лицах и свойствах Божества. Начало "богословскому взрыву" дает деятельность Оригена, который первым широко вводит в круг христианского мировоззрения проблематику античной философии - мироздания, времени, материи, знания. За этим начинается бурный период творчества, возникает множество ответвлений учения: гностические доктрины, осужденные церковными соборами ереси Павла Самосатского и Лукиана, монархианство, субординатизм, савеллианство и пр. Однако Арий создает нечто иное и более совершенное: новый взгляд на традицию Церкви и проект ее будущего. Недосказанность богословия древних отцов оставляет почву для широкой ревизии в духе "безусловного единобожия". Христиане, в частности, привычно используют формулировку: "Отцу чрез Сына во Святом Духе", - что в принципе не исключает и толкования о тварном характере Сына и Духа. Кристальная же, не допускающая как будто тени возражения философская логика в сочетании с организаторским даром и личным влиянием александрийца обеспечивает движению необычайную целеустремленность и действенную силу.
Арий на некоторое время буквально обезоруживает православных, отстаивающих более трудную, Троичную истину и не располагающих разработанной богословской системой. Христианству он предлагает перейти к однозначному исповеданию Бога Отца, спасающего мир через сотворенного Сына. Этим как будто преодолеваются излишние и исполненные вечной неопределенности прения по поводу Божественных Ипостасей; в церковную среду привносятся долгожданные единство и мир - ценою отказа от Сына Божия. Впоследствии эта ситуация повторится не раз: крупные лжеучения все так или иначе будут стремиться упростить учение о Троице и о Христе, использовать в доказательство своей правоты самые передовые, "прогрессивные" логические инструментарий и методы и больше всего апеллировать к земной, практической целесообразности.
Аэций, ближайший наследник Ария, возьмется уже не только очерчивать строгие границы Бога, но и поверять Его математикой. В VI в. в учености всех превзойдет монофизит Иоанн Филопон. Только столетие спустя святой Максим Исповедник сумеет противопоставить ему необходимое объяснение двух естеств во Христе. Равно в конце византийской истории Григорию Паламе придется весь богословский дар и исихастский монашеский опыт направить на сражение с отточенными силлогизмами западной схоластики.
Православному сознанию традиционно с трудом удавалось поспевать за земной "эффективностью". Ибо предмет его тяготения всегда плохо вмещался утилитарными рамками. Зато состоявшуюся победу учения о Пресвятой Троице и Богочеловеческом идеале, в котором, по замечанию апостола Петра, есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают(2 Пет. 3: 16), - нельзя не расценить как настоящее чудо и свидетельство истины от Бога. Восточно-православная традиция отразит данную победу и главную суть в своем названии. "Православие" - это именно православие, возможность славить Бога таким, Какой Он есть; вероучение, одержавшее верх над ересями. Для сравнения, два других направления христианства в наименовании своем по-разному передают основную идею: "католическая" - всеобщая, "протестантская" - провозглашающая.
"Арианство (и не оно одно - А.Р.) поставило перед церковным сознанием философскую задачу. И в философских понятиях и словах ответила Церковь на арианский соблазн", - пишет известный исследователь прот. Георгий Флоровский. Раннее Средневековье, в церковной истории называемое эпохой Вселенских соборов, явилось по существу прямым продолжением апологетического времени. И только апология эта адресовалась уже не языческим императорам Рима, но культуре и мысли эллинистического мира. Словно бы поневоле Церкви приходится вступаться в область тончайших и не для всякого доступных философских дефиниций, без которых, можно не сомневаться, в своем нравственном и аскетическом учении она бы сумела легко обойтись. Однако, проповедовать и наставлять приходилось тех, кто воспитывался на Гомере и Гесиоде, учился мыслить по образцам Аристотеля и Платона. Искушение против Евангельской истины имело интеллектуальный характер, и христианство должно было доказать, что оно в состоянии передать свое упование в т.ч. и на языке дискурсивного анализа и диалектики.
Историки говорят о широко привившемся на Востоке "богословском сочувствии" арианству, от которого пришлось освобождаться долго и трудно. Феодорит Блаженный пишет: "Восточная часть империи приняла эту заразу во многих местах. Арий, был пресвитером в Александрии египетской, породил там богохульное свое учение. А Евсевий, Патрофил и Аэций - палестинские, Павлин и Григорий - финикийские, Феодот и за ним Георгий - лаодикийские, после же Афанасий и Наркис - киликийские старались питать эти прозябшие семена зла. Равным образом Евсевий и Феогнис - вифинские. Минофант Эфесский, Феодор Перинфский, Марис Халкидонский и некоторые другие из Фракии, получившие известность только своей злобой, долго рассеивали, поливали и согревали эти плевелы".
Большое значение в успехе арианства имела его политическая подоплека. Христиане к тому времени составляли уже более четверти населения Империи, и власти, считая, что дискуссии угрожают целостности страны, требовали формальной ясности в вопросах веры. В толкованиях Ария и его убежденности виделось как будто больше надежды на унификацию веры и церковных понятий. В 328 г. Арию было позволено вернуться из изгнания, и в 335 г. он уже готовился торжествовать победу, как неожиданная и загадочная смерть (в уборной, подобно Иуде, "расселось чрево" - внутренности вывалились) остановила упрямого александрийца в притязаниях на верховенство в духовном законе.
Конец главного ересиарха не остановил последователей, которые продолжили разворачивать планомерное наступление. Под конец жизни к арианству склоняется Константин Великий, защитник правоверия и организатор I Вселенского, Никейского собора, осудившего арианство. В 337 г., на смертном одре он принимает крещение от арианского епископа Евсевия Никомидийского. Широкую поддержку арианам предоставляет его сын Констанций, правление же Валента повторно напоминает верным о тяжести императорских гонений. До 381 г., времени II Вселенского Собора, арианству удастся захватить обширные области в Антиохии и в Малой Азии, на севере, у германских племен, удерживать за собой большинство константинопольских храмов, включая святую Софию и собрать несколько поместных соборов, принявших выгодные для них решения.
В чем было состоять защите Троичности и где отыскать необходимые основания для объединения? Нарекания на православных были отчасти оправданы. Не умея в точности определить, на чем настаивают, они в то же время пускались в жаркие прения, дробились на партии, предлагали все новые вероопределения, подозревали друг друга в неправомыслии, интриговали, накладывали взаимные отлучения и т. п. Многие, по разным причинам отказывались принимать термин "единосущия" Отца с Сыном, принятый в Никее. Римский папа Юлий в свою очередь пытался использовать догматический раскол для утверждения своего влияния на Востоке. Для большинства же, не бывшего столь образованным, отличие между "омоус" и "омиус", "единосущием" и "подобосущием", виделось как нечто сугубо символическое и маловажное. Непроизвольные заимствования из арианства встречаются у большинства авторов упомянутого периода.
Впечатление было такое, пишет церковный историк Сократ, как при ночном побоище, в котором никому неизвестно, где враг, а где друг. Линия строгого никейства олицетворялась позицией Афанасия Александрийского, которому, кажется, в основном и принадлежат формулировки соборного Символа веры. Продолжая линию своего наставника, епископа Александрии Александра, Афанасий сделал много для православного учения. Его основополагающие формулы: "Бог стал человеком, чтоб человек стал Богом" и "во кресте не вред твари, а врачевство", - составят опору для Церкви не только в ее столкновении с арианством, но и во весь последовавший за этим период христологических ересей.
При этом крупным богословом или писателем Афанасий не был. "Он уделял занятиям мало времени, - пишет Григорий Богослов, - ровно столько, чтоб не прослыть невеждой". Это был закаленный боец и предводитель Церкви, воинствующей за истину, который сам обладал обостренным чутьем на истину. Начало его пути в вере пришлось еще на гонение Диоклетиана, в котором будущий святитель потерял родных и наставников. Характер его был сформирован примерами массового исповедничества и приобрел из-за этого необыкновенную решимость и твердость. Стихией Афанасия было открытое сражение против ереси, хотя не откажешь ему и в известном реализме и умении выстраивать систематическую оборону. Пять раз он был в ссылке, укрывался от императорских преследований у отшельников Верхнего Египта. Его привлекал образ жизни подвижников и приемы аскезы. По-видимому, из сердца пустыни им было вынесено убеждение в необходимости с полной твердостью стоять за Троичное Православие. С начала церковного раскола 330 г., на протяжении нескольких десятилетий самого тяжелого напора ариан никейское исповедание веры на Востоке будет удерживаться им, его личным подвигом и убеждением. "Вера Афанасия" выступит своеобразным синонимом неповрежденности догматов. Церковь засвидетельствует святость Александрийского архипастыря в мужественном стоянии за Троицу и назовет наряду с немногими "Великим".
Но тот же личностный фактор, который побуждал Восточную Церковь считаться с принципиальной позицией "неистового Афанасия", рождал и определенные сложности. Категоричность и воинственный настрой его вызывали в церквах отторжение. Неприятный осадок оставило то, что на стороне Афанасия, в качестве судьи Востока, выступил Западный первосвященник, заносчивый папа Юлий. Тем более для властей глава александрийского Православия был как бы постоянным бунтарем и спорщиком, который в общей сложности двадцать лет провел в опале сначала у Константина, после у Констанция, у Юлиана Отступника, у Валента. При всяком разногласии в вере, угрозе для Церкви он без оглядки был готов ринуться в бой, как сын на защиту матери. Однако, помимо противников, были еще и колеблющиеся, заблуждающиеся. Многие из епископов и пресвитеров вовсе не участвовали в прениях, а руководились христианской интуицией и простым нравственным суждением о происходящем, желая усмотреть в ком-то противоборствующих сторон свидетельство истины Христовой непосредственного, духовного свойства.
Повествование о чуде св. Афанасия на Никейском соборе, когда плинфа в его руках в удостоверение троичной природы разделилась на воду, огонь и глину, очевидно, относится к числу благочестивых легенд. Но церковным сознанием подмечается важное - недостаток одной только богословской аргументации, а необходимость удостоверить истину живым, непосредственным действием. Рациональные доводы Ария пользовались, кстати, в аудитории определенным преимуществом, и большинство Собора было готово принять его сторону в споре. Смущение произвело, как бы сказали теперь, неадекватное поведение отставного александрийского священника, его безапелляционная манера излагать мысли и высокомерный вид "глашатая истины". Было то или нет, но символическим переломом и актом низложения ереси считается оплеуха, которую, выступая вперед, неожиданно отвесил Арию епископ Мир Ликийских Николай. Обычно смиренная и тихая его душа не могла воспринять абсурда происходящего: собрание отцов, многие из которых глубоко почитаются у себя в церквах, прославились добродетелями и несут следы страшных увечий, принятых за веру, и - самонадеянный философ, на фоне всеобщего бездействия и подавленности возвещающий некую найденную им "новую правду", а по сути хулу на Христа, облеченную для оправдания в одежды Евангельского и апостольского слова.
С этого времени резкий поступок св. Николая выступит примером праведного, безгрешного гнева, главной же чертой характера Ария станут считать его гордость, надменность, резко диссонирующую с проповедью Христа, как пришедшего в уничижении послужить людям. Без преувеличения, для наступившей эпохи Константинова мира краеугольным вопросом становится этот: скорейшее отыскание по-настоящему христианского типа, способного свободно и широко "шагать в ногу со временем", надежно связать Евангельский идеал с проблематикой эпохи. Византизм высоко оценил мужество последователей Христа в гонениях. Но, даруя Церкви мир, он требует предъявить новое "настоящее христианство", разностороннее и гармонично устроенное, вдохновляющее и убедительное для многих. И такой христианский образ промыслительно даруется Церкви уже в следующем поколении ее служителей и проповедников.
Нельзя не заметить существенного различия житий каппадокийских святителей Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского и последовавшего им вскоре антиохийца Иоанна Хризостома-Златоуста от более древних агиографических сюжетов. Позади остается настороженность эпохи преследований - выросшая на почве Константинова мира когорта выдающихся христианских деятелей сама являет плод Евангельского торжества в мире. Меняется ощущение окружающего пространства и времени. Бывшие доселе враждебными, угрожающими, они преображаются в "свои", близкие, сотворенные милосердным Творцом и требующие христианского участия и благоустройства.
В семье каждого - церковные корни, почти всех ближайших родственников их Церковь чтит как святых [1]. Вхождение в круг Евангельских понятий молодых людей, будущих подвижников, органично и плавно, ибо вдохновляется примерами искренней и теплой религиозности близких. В то же время во всех проявляет себя аристократизм, широкий, в соответствии с обычаями времени, интерес к образованию и культуре. Элита своего общества, лучшие из лучших в науках, перенявшие навыки от блестящих наставников своего времени, они могли бы явить образец светского успеха, но несут в себе более высокий идеал христианского совершенства и тягу к подвижничеству. В молодости никто из них не прошел мимо массового на ту пору увлечения иноческой аскезой. Школа пустыни как приобщение к "роскошеству злостраданий", по выражению Григория, на всю жизнь глубоко отчеканила в них качества терпеливости и самообладания.
Можно сказать, что весь опыт Церкви сходится в их лицах. Недалеки еще времена мученичества и гонений, идеал девственной жизни стоит высоко, близость к движению христианских отшельников пробуждает дух бодрости, знакомство же с богословской письменностью и широкая образованность служат основанием успешной учительской деятельности и руководства. Первым из всех нужно назвать Василия, церковный титул которого "Великий" должен по-видимому трактоваться в значении "Большая душа". Неоценимы заслуги его как борца с арианством, православного богослова, но главным образом в систематическом и терминологическом плане: для прояснения содержания понятий ипостаси, природы и сущности Божества. Изложение же вероучения в основном следует за Афанасием и заметно уступает полету мысли Григория, ближайшего сотоварища, которому более всего подходит имя великого богослова и песнопевца Святой Троицы.
То, что отличает Василия, - это свойства уравновешенной, гармонической личности, крепко держащей в руках нить прикладной жизни. Собственный интерес святителя - не догматический, а скорее мировоззренческий, направлен к созданию целостной христианской картины мира. Неслучайно среди работ его наибольший интерес представляют "Беседы на Шестоднев", "уясняющие естество сущих", как говорится в тропаре святому.
Христианство в его примере предстает по-настоящему жизненным и доступным. Доступным, конечно, не в современном значении приспособления к прихотям, но возможности свободно ориентироваться в пространстве Евангелия, рассуждать, мыслить языком Христова откровения, совершать самостоятельный выбор - одним словом, строить христианскую жизнь, практически овладевать процессом спасения. Можно сказать, что стараниями святого Василия новозаветная духовность впервые предстает в своем разумном качестве: как системный подход к действительности, а не исполнение отдельных нравственных предписаний, отвержение мира или вера в сверхразумное, "абсурдное" Тертуллиана. И сама личность во всем этом меняется, прибавляет в способностях и расширяет горизонты, выходя из рамок прежних традиционных представлений. "Явился еси, подая всем некрадомое господство человеком" (кондак святителю). В "величии" Василия человечество становится соразмерным истории, являет украшение обычаям(тропарь): культуре, общественности, знанию и прочему. Христианство переживает настоящую революцию человека.
Не уклоняясь от борьбы, не проходя мимо трудных вопросов, кесарийский епископ являет в себе столь очевидные преимущества над идейными противниками, столько свободы в действии, уверенности и спокойствия, что вопросы, на чьей стороне истина, отпадают как бы сами собой. Современники подмечают его царственную, в соответствии с именем (Василий по-гречески "царственный"), исполненную особенного духовного достоинства манеру держаться, умение говорить "как власть имеющему". Без сомнения, предыдущему времени остро не хватало подобной путеводной фигуры.
Стараниями Василия православный Восток объединяется. В правление императора-арианина Валента Кесария становится оплотом сопротивления арианам и евномианам. Григорий особо отмечает реализм и тактическую мудрость друга, который в одни моменты старался не заострять противоречий, проявлял осмотрительность и "умалчивал", например, воздерживаясь называть Богом Святого Духа, а в другие и более благоприятные - проповедовал учение о Пресвятой Троице прямо. "Ибо, когда время поколебало благочестие, - говорит Григорий, - стоя за одно речение, можно неумеренностью все погубить".
Во всем этом прослеживается талант не просто идейного лидера, но также, что чрезвычайно ценно, кропотливого собирателя церковного единства и воспитателя душ. В учительстве Василия происходит важнейшее обогащение церковной дидактики элементами антиномического и диалектического мышления. Христианский выбор трактуется как отыскание меры, одновременное принятие в рассмотрение разных сторон проблемы и избежание крайностей. В самом святителе невозможно увидеть ни искусственно выпяченных сторон, ни чрезмерной увлеченности или обусловленности чем-либо. Авторитет иерарха не влечет за собой подавления и жесткости повелителя. Приверженность к аскетическому подвигу и уединенной молитве не переходит в отрешенность и сухость. Ревность о чистоте учения не заслоняет самого учения: при крайнем внимании к богословским деталям святитель, по словам его друга Григория, всегда помнил: "спасение наше не столько в словах, сколько в делах",- и добивался успеха силой Евангельского прощения. Все это в конечном итоге задает своеобразный новый, отвечающий перемене эпох эталон христианского поведения, отношения к жизни, актуальный в т. ч. еще и для нашего времени, только, быть может, с трудом умещаемый в него по причине катастрофического измельчания человечества.
Вообще, известным диалектизмом отличались еще послания Павла. Апостольское руководство общинами строится по принципу диалога с конкретными обстоятельствами и пестует души. И все-таки в первые века, в обстановке гонений, преимущество было отдано мотивам единого для каждого христианина долга и нормы. Эту же односложность, монологичность мы можем наблюдать еще и в начале византийского "золотого века", при Афанасии - в характерной трактовке им своей миссии защитника учения о Пресвятой Троице. Но ересь, этот ужасный надлом жизни всей Церкви, недостаточно просто отвергнуть, ее необходимо изжить - устранить самые поводы к ее возникновению. За теми, кто вступает в противоборство, должны прийти устроители нового мира, лекари ран, исправители суждений и нравов. Сам Афанасий Великий, несокрушимый александриец, приветствует и благословляет эту дополняющую его старания работу. "Любая страна, - говорит он о Василии, - почла бы за честь иметь у себя такого епископа". И констатирует родство с Павловой проповедью, которого так недоставало ему самому: "Для немощных он стал немощным и действительно приобрел немощных".
В молодости, до крещения святитель Василий имел адвокатскую практику, и это впоследствии отразилось на его церковной апологетической и пастырской деятельности. По словам Фенелона, ему удавалось легко становиться в положение другого человека, "ведать истоки недугов людских и быть врачевателем душ". В вопросах же нравственных для Василия не существовало двусмысленности или сомнительных компромиссов. В голодный 368 г. Василий-пресвитер продал свое наследственное имение и на вырученные деньги купил для кесарийской бедноты хлеб. Другие знатные граждане, под влиянием этого примера и проповеди Василия, также открыли двери своих житниц для голодающих. Клир управляемой им Кесарийской митрополии соблюдал обет нестяжания и отдавал время труду и заботе о людях. Любой пострадавший несправедливо, а особенно, кто обездолен, мог воззвать к суду иерарха и получал ответ без воззрения на лица.
Своеобразный церковный надзор за порядком устанавливает Василий в пределах Каппадокии, нередко выступая на стороне народа, притесняемого местным чиновничеством. Жители платят ему за это самым искренним уважением и благодарностью. В один из моментов между духовной и светской властями разгорается острый конфликт: святитель Василий берет под свое покровительство молодую вдову, которую домогается видный чиновник. Префект, науськанный им, угрожает епископу судом и расправой. Однако, как только известие об этом доходит до горожан, толпа окружает дворец префекта и требует оставить Василия в покое.
Такое положение народного трибуна дает святителю уверенность в отстаивании своей позиции, в т. ч. и перед Константинополем. Как-то Валент направляет к нему префекта Модеста с угрозами. Вернувшись, тот выглядит смущенным и признается: "Со мной до сих пор никто не смел так разговаривать". "Видно, ты не встречался с епископами", - отвечает кесарь на это, имея ввиду, конечно, настоящих церковных иерархов, а не интриганов и панегириков, которыми переполнялись двор и столица.
Но все-таки, скажем об этом еще раз, определяющей для Василия является не привилегия сана, не обостренное ощущение собственного достоинства или желание настоять на своем. Василий тверд, ибо спокоен и целен в себе. По отношению к образцам предыдущего, античного времени: дисциплины и самоограничения стоиков, доблести воителей, жреческой мистериальности, софистического умения вести споры - он представляет как бы новый и превосходный человеческий тип, тип нового общественного героя, собирательное олицетворение идеала византийского возрождения. Величие святителя (а надо сказать, что титул "Великий" он получил от современников еще при жизни) не имеет ничего общего с превосходством, привилегированностью или почестями наподобие тех, которые воздаются светским кумирам толпы. Василий весь отдан служению и по-евангельски готов полагать душу за каждого. Не прожив и пятидесяти лет, в 379 г. великий каппадокиец оканчивает жизнь, буквально сгорая от перенапряжения. Но силы отдаются не зря, и основания к преодолению церковной распри созданы. Минует два года, и в освобожденном от ариан Константинополе Вселенский собор утвердит учение о Троичности Божества, Василию же воздаст славу святого учителя и защитника Православия.
Свойство соборности, присущее Церкви, не допускает, однако, сосредоточения в одной, даже самой выдающейся фигуре. Реальность Христа безмерно многогранней и выше любого из частных человеческих проявлений и всегда требует своего полного выражения Церковью. Возникновение через века, в Византии XI в. "партий святителей" и ожесточенная борьба их, равно как авторитарные наклонности Рима, возникшие в связи с идеей об абсолютном верховенстве Петра, дают увидеть непоправимую узость христианства, перешедшего в какую-нибудь теорию особых прав "Петрова наследника" или в исступленное "василианство". Сам великий каппадокиец олицетворяет в себе собирательный опыт Церкви. В нем, в частности, прослеживается параллель с пастырской жертвенностью Павла. Несомненное родство касается судеб их - терпеливого несения "жала в плоть", креста постоянных болезней. "Исхудалый от постов, изможденный от бдений, едва-едва во плоти, едва-едва во крови", - говорит о нем Григорий. "Мученик быв произволением", - подытоживает праздничная стихира.
Даже в иконографическом облике святого Василия есть нечто от апостола языков: святость в Церкви по-настоящему традиционна и преодолевает различия времени. С другой стороны, с Петром у него имеется своя близость и свои сходные черты: волевой склад, власть "вязать и решить", роль Василия для своей эпохи как нового Кифы, Камня, утверждающего в вере братьев. "Явился еси основание непоколебимое Церкве..." - такими словами открывается кондак святому. В одном же из песнопений преемство оказывается еще более расширено: "Всех святых собрав еси добродетели, отче наш Василие: моисееву кротость и илиину ревность, петрово исповедание, иоанново богословие, яко Павел вопия не престал еси: кто изнемогает, и аз не изнемогаю, кто соблажняется, и аз не разжизаюся?" (стихира на стиховне).
Также и для Василия необходимое восполнение и развитие представляют два других Божественных сотрудника, Григорий и Иоанн. Характер первого, самоуглубленный, с развитым воображением, являет как бы антитезу, но позитивную антитезу более деятельному товарищу. В нем познается дитя античности с ее тягой к изяществу, эмоциональной и интеллектуальной утонченности. Жизненный путь Назианзина от этого приобретает характер внутренней драмы и символически отражает в себе процесс обретения христианством самосознания, переплавления древнегреческого культурного типа в иной, напитанный по-евангельски совершенными и чистыми движениями мыслей и чувств.
То, что в "публичном" складе Василия примирялось и смягчалось мотивами служения церковному благу и людям, перед Григорием предстает в полном своем идеальном масштабе, рождает переживание множества неустранимых противоречий с земным бытием. Семейные чувства, сыновние долг и признательность, а, кроме того, сильная привязанность к соученику и старшему товарищу, вступают в острую борьбу с желанием оставить мир и целиком погрузиться в молитву и богомыслие.
Большое влияние на Назианзина оказывает мать, ревностная христианка, испросившая сына в молитве и посвятившая его Богу еще до рождения. Может быть, из-за этого в нем рано пробуждается чувство добра и зла, непримиримость к малейшей неправде. Мир для Григория - это все, что не-Небо, духовный взор сосредоточен на горнем. Вместе с тем, его невозможно назвать бесстрастным или отрешенным от внешнего. "У каждого своя слабость: я пристрастен к дружбе и друзьям", - пишет он в одном из писем, а в другом случае сознается, что неспособен к пустынножительству и безмолвию по причине крайней любви к книгам и "свету Духа, почерпаемому при углублении в Божье Слово".
Склад будущего богослова и церковного иерарха навсегда останется очень пылким и впечатлительным, а вместе с тем чрезвычайно упорным и твердым. С детства Григорий не мог не питать самых теплых и нежных чувств к семье, в которой родители, сами успев в благочестии, направили троих детей к святости. Со временем возникла дружба с Василием, о которой Григорий отзывался как об обретенном им счастье. "Стали мы друг для друга всем, - и товарищами, и сотрапезниками, и родными, - имели одну цель, любомудрие, и непрестанно возрастали в пламенной любви друг к другу. У нас все было общее, и одна душа в обоих связывала то, что разделяли года", - такое описание обнаруживает в подвижнике целую бездну лиризма и нежности.
Благодаря этим связям Церковь обретает своего прославленного архипастыря, победителя арианства, хотя, вероятно, и теряет в его же лице одного из своих величайших духовидцев, учителей молитвы и богообщения. С тяжкими воздыханиями, через силу, подымается он по ступеням церковной иерархии - от служения пресвитера в родном Назианзе до возведения на Константинопольский патриарший престол. Никто: ни родители, ни ближайший друг, не проникают в силу томления духа Григория - неизбывное желание ума и сердца "не оскверненному беседовать с Богом и чистому озаряться лучами Духа, без всякой примеси дольнего, без всяких преград для Божественного света".
С детства его посещают мистические видения. В них он "восходит ввысь, к сияющему престолу". Илия и Предтеча являются ему, увлекая за собой. Но все пересиливают взятые из Евангелия любовь и смирение: смирение двигаться по пути, отвергающему желания, и любовь к драгоценным душам, порой, по его же словам, "как груз, увлекающая к земле", но все же не допускающая разрыва - по-своему также аскетическая, святая.
Самоуглубленность не может скрыть от окружающих богатых его дарований - Церковь в эти годы остро нуждается в учителях и апологетах. Отец, назианзский епископ, первым приступает к сыну и убеждает его принять рукоположение. Григорий отказывается, ибо служение проповедника и приносящего Евхаристию считает для себя непомерно ответственным и высоким. Уговоры отца для молодого подвижника становятся, по его собственному выражению, "страшною бурею" - ведь к нему обращается одновременно епископ и горячо любимый родитель. Колебания эти в конечном итоге будут расценены как свидетельство слабости. Отец употребит власть и в 361 г. "против воли" рукоположит Григория в священника.
То, что происходит за этим, доказывает опасную крайность совершенного насильственного шага. Религиозное устремление души к "Божественному свету и чистоте" вступает в жестокое столкновение с сыновней любовью и преданностью. Григорий будто теряет разум: во внезапном порыве, "как вол уязвленный слепнем", он оставляет родительский дом и бежит в пустыню. Впрочем, "забыть все, - друзей, родителей, отечество, род" он готов только в первые минуты горячности. Сердце влечет его в Понт, где подвизается Василий. Беглец, если не в матери и отце, то в Божественном друге рассчитывает найти "врачевство от горести". Месяцы, проведенные вместе с Василием, облегчают скорбь. Но только на время, ибо впоследствии земная дружба потребует от него нового отречения. Почти десять лет св. Григорий прослужит в Назианзе в качестве помощника своего отца. В 372 г., снова под принуждением, его поставляют в епископы городка Сасимы. На сей раз на чуждом решении будет настаивать друг, который нуждается в безотлагательной поддержке. И Григорий, преодолев себя, несет этот крест.
Роль его наиболее важна в годы, последовавшие за кончиной Василия Великого. Основная тяжесть внутрицерковной борьбы и богословской полемики передается ему. Перебравшись в Константинополь, захваченный арианами, Григорий служит и проповедует в одном из частных домов, впоследствии перестроенном в церковь Анастасии (Воскресения - подразумевалось воскресения Православия). Проповедь его не вполне обычна - это не философия, не риторика, не нравоучение, но, скорей, доверительный рассказ о Святой Троице, которую провидец постоянно имеет перед собой в мысленном взоре. "С тех пор, - сознается Богослов, - как в первый раз отрешившись от житейского предал я душу светлым небесным помыслам, и высокий ум, восхитив меня отсюда, поставил далеко от плоти, скрыл в тайницах небесной скинии, - с тех пор осиял мои взоры свет Троицы, светозарней которой, ничего не представляла мне мысль, Троицы, которая с превознесенного престола изливает на всех общее и неизреченное сияние, Которая есть Начало всего, что отделяется от превыспреннего временем, - с тех пор, говорю, умер я для мира и мир умер для меня..."
Отношение Григория к Троице - глубоко личное, как к Единой Жизни и предмету возвышенных чувств. Троическими мотивами проникнута вся его молитвенная поэтика: "Троица мое помышление и украшение", "О Пресвятой Троице я чаще говорю, нежели дышу". Это богословие, которое стоит далеко от прагматической целесообразности и позиционной борьбы. Окружающим оно открывается, ибо от избытка сердца глаголют уста. Один среди всех святитель Григорий не боясь проповедует учение, которое считают опасным и с которым не соглашаются многие, - прямо называющее Богом Святого Духа. Но именно такое свидетельство "от сердца" оказывается решающим. На богослужения в Анастасию стекаются многочисленные толпы горожан, из раскола выходят клирики церквей. Наконец, со вступлением в Константинополь императора Феодосия столичные храмы передаются православным, Назианзина же единодушным народным порывом возводят на патриаршую Константинопольскую кафедру. Опять-таки против его желания, убеждая остаться в столице, "ибо с тобой от нас скроется и Пресвятая Троица".
Православная традиция отзывается о святителе как о "риторе Слова", "певце Троицы", удостаивает его эпитетов "наимудрейшего" и "огнедохновенного". Богослужебный Синаксарь называет его "столь великим, что если бы можно было создать человеческий образ и столп, составленный по частям из всех добродетелей, то он был бы подобен великому Григорию". Помимо утверждения учения о Троице им совершается прорыв в восприятии самого богословского метода. В Григории человечество научается не просто мыслить но, быть может, впервые отчетливо сознавать себя мыслящим и управлять деятельностью ума в связи с высшей, Божественной истиной. Пять "Бесед о богословии" - это развернутая и невиданная доселе перспектива, по которой, как по столбовой дороге, отныне двинется Церковь в своем вероучительном строительстве.
Христианин для Григория - это человек, прежде всего богословствующий, т. е. познающий Бога в ходе напряженного молитвенного праксиса ("Кто молится, тот богослов"). Данный тезис окажется определяющим при формировании новозаветного самосознания и его развитии. На Востоке наследие Назианзина будет значить то же, что Августиново мышление на Западе, - пробуждение интереса к интроспекции и Евангельскому персонализму. "Я не что-либо непременное, но ток мутной реки, которая непрестанно притекает и ни на минуту не стоит на месте. Чем из этого назовешь меня? Что наиболее, по-твоему, составляет мое "я"? Объясни мне это, но смотри, чтобы теперь этот самый "я", который стою перед тобою, не ушел от тебя".
Три биографические поэмы святителя "О моей жизни", "О моей судьбе", "О страданиях моей души" играют приблизительно ту же роль, что и знаменитая "Исповедь". Накал переживаний в них выше, а рациональные мотивы, характерные для Августина Блаженного, отступают перед мистическим пафосом - парением освобожденного ума, возносимого к Богу. От этого повествование местами кажется порывистым, излишне акцентированным на внутренних терзаниях того, которого тяготило мирское бремя и который, по его собственным словам, всю жизнь нес служение епископа и проповедника "не по доброй воле, но насильственно увлеченный другими". Современный взгляд, пожалуй, обнаружит здесь сходство с характерной рефлексией представителя "я-поколения", погруженного в свои переживания и бесконечный "психологический анализ". Но ведь всякий признает выдающейся его жизнь, прошедшую в кропотливом труде и отдаче себя сперва ради отцовских седин, после для друга, для просвещения паствы, - в глубине экзистенциальной жертвы, приносимой во имя Христа. Как сами за себя говорят поразительные результаты его Троичной проповеди, исшедшей из самых глубин сердца и таинственных собеседований в нем с Божеством и подготовившей победу Православия на II Соборе.
Не занятость собой или искание большего удобства, но увлеченность богообщением - тем Реальнейшим, которое далеко превосходит реальное, - отбрасывает на произведения Назианзского богослова и на его отношение к земной действительности оттенок как бы некоего горестного томления, производит множественные сетования сердца. Что ж, практицизм и организационный талант, как у Василия Великого, хороши и полезны, особенно при разрешении конкретных проблем, для утверждения в вере колеблющихся. Но кроме этого должна еще быть Мечта, питающая христианскую душу, окрыляющая ее. Именно такую большую Мечту дает Церкви Григорий - возможность проникновения во внутреннейшее, за завесу, постижения высшего смысла в молитвенном созерцании.
Доступное оправдание получает также наследие античной культуры, наук, философии. Святитель не раз сознавался, что готов поступиться чем угодно, но только не образованностью и знанием. "Я первый из любителей мудрости, - заявляет он о себе, - я никогда не предпочту этому занятию ничто другое". В правление Юлиана Отступника (361-363) он прилагает все силы, чтобы отстоять за христианами право обучаться риторскому искусству и философии, а также преподавать в школах. Краткая реставрация язычества протекала под лозунгами "возвращения славы искусствам и знанию" и порицания христиан как предающих забвению "мудрость древних". При этом император ссылался на старые, идущие еще от Цельса, обвинения о том, что "уделом христиан остаются необразованность и грубость", а славные науки и греческая образованность принадлежат тем, кто исповедует "веру отцов", т. е. язычество. Григорий Богослов блестящим образом оспаривает данное предубеждение. Юлиану, с которым в юности проходил учебу в Афинах, он направляет несколько защитительных писем, в которых утверждает: никто не вправе присваивать образованность себе и отказывать в ней христианам, как не может никто присвоить права на греческий алфавит или таблицу умножения, которые являются общим для всех достоянием.
В понимании святителя христианство не может быть разрушителем традиций, "верой невежд", но обязано войти в плодотворное взаимодействие и придать толчок новому развитию их. "Всякий имеющий ум, признает первым для нас благом ученость, и не только сию благороднейшую и нашу ученость, которая берется за одно спасение и за красоту умосозерцаемую, но и ученость внешнюю, которою многие из христиан, по худому разумению, гнушаются, как злохудожной, опасной и удаляющей от Бога. Но мы не станем восставлять тварь против Творца. Не должно унижать ученость, напротив, нужно признать глупыми и невеждами тех, кто желал бы в общем недостатке скрыть собственные свои недостатки и избежать обличения в невежестве".
Многие из богословских произведений Григория имеют стихотворную форму. Среди них выделяется поэма под названием "Христос страждущий" - подражание стилю античной трагедии и попытка основать новую христианскую литературу. Также и письменные работы и проповеди его отличают высокое одушевление и художественная выразительность. Впоследствии церковные песнописцы станут черпать отсюда характерные образы для своих сочинений. В основу канонов Иоанна Дамаскина на Рождество Христово, на Пасху, Пятидесятницу ложатся праздничные слова Назианзина. Известный ирмос Рождественского канона Космы Маиумского: "Христос раждается, славите. Христос с небес, срящите. Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви вся земля...", - также является прямой цитатой из проповеди его на Богоявление.
Как видим, святитель Григорий находит в просвещенности как бы некий дополнительный залог сохранения христианами нравственного здоровья и твердого исповедания веры. "Цивилизованность" с христианством становятся неразлучны во времени. Но с другой стороны, личная драма святителя в значительной степени также диктуется конфликтом, роковым раздвоением двух "ученостей" и двух "красот": наружной и внутренней, философской и опытного богообщения. Помирить между собой одну и вторую Григорию не удастся до конца жизни - последние годы его на покое отданы богомыслию и сочинительству и все-таки остаются исполнены грусти и сознания растраченных возможностей. Но, как ни парадоксально, горизонт эпохи от этого светлеет. Во внутреннем борении святителя происходит необходимый катарсис ветхого эллинистического сознания и одерживается принципиальная победа: в опровержении ереси арианства и новой волне богословского творчества, в появлении первых образцов оригинальной христианской культуры и личной святости одного из величайших отцов и подвижников Церкви.
После Григория Богослова споры о соотношении веры и разума, знания церковного и мирского продолжатся, и проповедь Церкви культуры, а культуре - церковности останется трудной задачей. Но неким чудесным наитием жизненный образ святителя, его воззрения и опыт ободрят и дадут ориентир поколениям. Они представят как бы вещественное подтверждение осуществимости идеала христианского просвещения и направят византийский мир в русло уникального по своему качеству синтеза философии, естественнонаучного знания с духовным подвижничеством и получаемым в ходе него опытом мистических, сверхразумных откровений. В православной агиографии так часто случается - один преуспевший, отправившийся своего рода первопроходцем в ту или другую область неизведанного, становится далее провозвестником открытий на этом пути и буквальным образом покровительствует, молитвенно и в личном примере, всем, кто идет следом. В подобном смысле святитель Григорий Богослов является ангелом византийской цивилизации, а пример его высокой молитвенной и интеллектуальной аскезы становится дополнением к аскетизму пустынножителей: Божественных простецов и хранителей священного безмолвия.
Правда великих каппадокийцев торжествует - в учении о Пресвятой Троице, в объединении православного Востока, положении начатков обновленной культуры и просвещения. Однако высоким образцам мысли и христианского подвига еще предстоит достичь умов и сердец современников и отозваться в них. Для конца IV - начала V в. важнейшее значение получает широкая народная проповедь Иоанна Златоуста. Слово святителя, облеченное в блистательную ораторскую форму, выстроенное, по замечанию прот. Г. Флоровского, в манере своеобразного "диалога с молчащим собеседником", в развертывании перед собравшимися сияющей перспективы Евангельского совершенства и общего печального отступления от него, перемежаемое чередой метких психологических этюдов и замечаний, не лишенных порой искрометного юмора, едкой насмешки и иносказательности, проникнутое живой сострадательностью и высоким отеческим чувством, становится необходимым завершением догматического учения Василия Великого и Григория Богослова.
В исторических описаниях этого и других периодов обычно доминируют мотивы социальные, политической борьбы или догматических прений. Исследователей интересует, борется ли Церковь за права бедных или подчинена интересам имперского строя, как складываются ее отношения с кесарями и в чем состоят притязания разных епископских партий. А между тем, вопреки предвзятости и схематизации в духе современных расхожих теорий, центральным вопросом был и остается этот: чем живет масса обычных, рядовых христиан и насколько им удается соответствовать своему имени? Естественно думать, что "золотой век" богословской мысли должен был повлечь за собой подъем в масштабе целого общества: воодушевление примерами подвига, почитание памяти великих отцов и учителей... Ревность Иоанна Златоуста направлена к этому. Рукоположенный в год триумфального для Православия II Собора в скромную степень диакона, младшего церковнослужителя, он встает на стезю более чем двадцатилетнего служения миссионера и рыцаря Евангелия, учителя совести.
Уже самое начало его церковной деятельности в Антиохии связано со сбором пожертвований и помощью неимущим прихожанам. В это время молодой Иоанн встречает немало примеров настоящей христианской добродетели, но, увы, и равнодушия с надменностью тоже. Риторское умение как одного из лучших учеников Ливания, способствует успеху его начинаний. Через пять лет Иоанна посвящают в пресвитерский сан. Евхаристия и проповедь занимают последующие двенадцать лет его жизни.
Небольшой храм в нижней, припортовой части старого города, где почти ежедневно звучало слово Иоанна, приобретает известность; самого же проповедника общее мнение прославляет как Иоанна Златые Уста и смотрит на него как на достопримечательность всей Антиохии. Будучи наслышан о нем и применив хитрость, всемогущий придворный вельможа Евтропий увозит Иоанна на своей колеснице в Константинополь. Провинциальный священник словно бы сверхъестественным мановением оказывается на патриаршем престоле, встает в самый центр столичной жизни.
Все "христианство" тогдашней империи ярко проявляет себя в этом: византийскому двору кажется лестным притягивать все необычное и изящное, покровительствовать разного рода учености, упражнениям в богословии, произнесении возвышенных речей. В прибывшем антиохийце видят главным образом знаменитого артиста слова. А между тем рвение Иоанна идет дальше сугубо риторических упражнений. Им владеет замысел широкого духовного обновления, которое переменило бы в лучшую сторону нравственное лицо Византии, собрала силы, привела общество к более справедливому устройству, а внутри Церкви покончила бы с расколом и борьбой мнений. Это не был велеречивый вития, по случаю взошедший на пастырскую кафедру, но настоящий подвижник и преданный служитель Христа, влияние которого на окружающих оказывалось тем более значительным, что в своих руках он держал оружие остро отточенного слова.
Идеал просвещенного Троического Православия, идущий от каппадокийцев, заметен и здесь: "...твоими устнами вся учиши покланятися в Троице Единому Богу" (кондак святому). Златоуст повторяет убеждение предшественников в необходимости церковному учению "находиться на уровне" с достижениями внешней культуры и знания. В одно и то же время святителю Иоанну удается следовать за лучшими образцами античного красноречия, постигать совершенство философских определений "новой ортодоксии" Василия Великого и Григория Богослова и при этом никогда не прерывать живой и трепетной связи с Евангелием, его идеальной нравственной основой. Кто знает, если бы в Новое время в лице какого-нибудь выдающегося подвижника Церкви можно было видеть ту же свободу владения материалом современных наук, реалиями экономико-политической жизни, вполне вероятно, исторические судьбы прогресса не разошлись бы в такой степени с верой и потеря духовности в рамках цивилизационного роста не была бы столь вопиющей?..
Переезд в Константинополь в 398 г. и предложение, почти требование, занять патриаршую кафедру - перемена весьма и весьма неожиданная - лишний раз наводит его на мысль, что время решительных действий настало, и сама рука Божия вверяет под его попечение нравственное благо народа и Церкви. С необыкновенным усердием Иоанн берется за дело. Он не богослов, не политик. Правде Божией он служит тем, что знает и умеет лучше всего: богослужением и проповедью. Пожалуй, никогда своды Софии, собора Святых Апостолов не видели другого столь истового первоиерарха. Евхаристия изо дня в день и всякий раз после нее выход к народу со словом, произносимым экспромтом, но чрезвычайно обстоятельно, - порой в продолжение двух часов без передышки и признаков утомления.
Жанр обращения к пастве - это своеобразное творческое открытие и основной метод Иоанна. Наследие его является одним из наиболее обширных среди отцов Церкви. Более 800 проповедей на разные темы дошли до нашего времени. Правда, не во всех случаях принадлежность их святителю подтверждается: авторство Хризостома в скором времени становится синонимично проповедническому искусству вообще, и сохранившиеся ранневизантийские гомилии часто произвольно надписывают его именем. Однако первоначальный масштаб наследия святого был наверняка еще более значительным, и часть текстов оказалась утрачена или попросту не застенографирована вовремя.
Так или иначе, смысловая завершенность и зрелость, совершенство языковой формы того, что Златоустом было произнесено на едином дыхании, заслуживает глубокого восхищения и превосходит всяческое представление о таланте импровизации. В нынешнем понимании это скорее не проповеди, а развернутый катехизис, полноценный курс лекций и фундаментальная исследовательская работа по экзегезе всего Нового завета и многих книг Ветхого. Содержание каждой беседы оригинально, не допускает повторов и общих мест, лишено менторских интонаций и натянутой патетичности. Впечатление такое, будто, выходя на амвон, Иоанн с новой точки продолжает начатое прежде, и объявляемые темы занимают положенные места в некоем всеохватном и заранее предвосхищаемом плане.
Он и имел перед собой этот план и эту цель - вернуть византийское общество в контекст Евангелия, соединить свое время со словом Христа, звучавшим в Иерусалиме и Галилее почти четыреста лет до того. Ибо за догматическими спорами, состязаниями философских формул, усложнением церковной организации мало-помалу поблекло, отодвинулось на задний план исходное значение христианства как личной добродетели и общинного единства духа в союзе мира. Некоторые склонны по этой причине усматривать в образе Златоуста образцового моралиста и обличителя социальных и церковных язв, стоящего едва ли не в оппозиции остальному течению, в т. ч. и богословскому. С воодушевлением протестанты цитируют произведения святителя, усматривая в нем по сходству с собою этакого пуританина и правдоискателя, предтечу своего вольноопределяющегося исповедания, византийского Лютера. Но настоящая правда была в том, что Златоуст не провозглашал что-то готовое и общеизвестное, а буквально творил, на глазах создавал прикладную доктрину христианства применительно к новым условиям, этически осмысливая Евангелие в свете насущных общественных и церковных задач.
Проповедь его - это, по существу, обновленное учение о спасении. Внимание христиан в первые века было почти целиком отдано свидетельству веры в гонениях; начало Византии выдвигает свой выбор между правым исповеданием и ересью, отрицавшей Божество Иисуса. Торжество же учения о Троице и наступление церковного мира обращают взор к идеалам благочестия и жизни совести - несению христианином своего повседневного креста, необходимых начал церковности, исполнения каждым на своем месте заповедей Божиих и религиозных обязанностей. Святой Иоанн Златоуст первым создает развернутое начертание христианской благочестивой жизни, своего рода прикладное приложение догматов и "философию добродетели". Проповеди его - это как бы объемная панорама действительности, мозаика ситуаций и взгляд на них с христианских позиций. Вера и подготовка к крещению. Евхаристия и молитва. Языческие празднества, театр, цирк, античный культ телесности. Деньги, роскошь и сострадание к бедным, неправедные суды, притеснение слабого. Семья, отношения между женою и мужем, повторные браки, дети и воспитание. Страдание и его смысл, конец этого мира, жизнь после смерти. То на одном, то на другом месте встречаются узнаваемые, предельно конкретные зарисовки и сцены: вот богач, дающий пищу последнему мулу и равнодушно проходящий мимо нищего странника; а вот муж-тиран, делающий из своей супруги еще одну рабыню и, напротив, жена, которая помыкает слабовольным главой семейства и выпрашивает у него денег на очередную побрякушку. Нравственный катехизис Златоуста по-новому, в соответствии с временем, касается содержания стержневых Евангельских категорий: верности Христу, нравственной чистоты и греха, любви, добродетели, единства, долга, жертвы, служения, смирения и им подобных.
Если подытоживать кратко, перед нами - полноценная психолого-этическая перверсия Евангелия, учение о христианской совести. Богатую почву предоставляет святителю толкование прочитанных за богослужением отрывков Писания: Евангельских и Апостольских глав. В православной традиции существует несколько экзегетических направлений и школ, отличающихся одно от другого степенью символизма и филолого-историческими наклонностями. Но главное среди них, безусловно, восходит к характерной истолковательной манере Златоуста, сочетающей прямоту и реализм разбора с последующим дидактическим переносом его на пространство экзистенциальных категорий и индивидуального выбора. Символика Писания не отвлеченна, она взывает к конкретным нравственным действиям - к проявлению терпения, доброжелательности, самоотдачи (по поводу неблагоразумия и распущенности жены): "Христос страдал за Церковь отвращающуюся от Него и ненавидящую Его. Как Он, когда она отвращалась, ненавидела, презирала Его и была развратна, покорил ее под ноги Свои, не прибегая к угрозам, ни к порицаниям, ни к устрашениям - так и ты поступай в отношении к своей жене; хотя бы ты видел, что она пренебрегает тобой, что развратна, что презирает тебя, умей исправить ее великим о ней попечением, любовью и дружбой. Если бы и случилось потерпеть что за нее, не ропщи; Христос этого не делал".
Примечательно, что наряду с этим у проповедника возникает и широкая апелляция к сюжетам и образам Ветхого Завета. В части нравственных наставлений прослеживается сходство с Книгами Мудрости: Соломоновой, Екклезиаста, Иисуса Сираха, Притч. "Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр". "Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его". Такое сближение с ветхозаветной этикой неслучайно, ибо христианство эпохи Златоуста по-своему также приходит к пониманию добродетели как исполнения Закона Божия, греха же - как нарушения этого универсального Закона, преступления Божественных норм, беззакония.
Уча Божественным заповедям и совестной жизни других, проповедник сам встает перед необходимостью осуществлять одно и другое на практике. Отсюда берет начало известная строгость его и неуступчивость к нравственным компромиссам. Вообще-то, философия Иоанна имеет мало чего общего с безоглядным ригоризмом, мелочной педантичностью или ханжеским взглядом на окружающую жизнь. Дидактике его, обращаемой к слушателям, наоборот, свойствен особый реализм и предостережение от крайностей - диалектичность, напоминающая аналогичный взвешенный подход Василия Великого. Только что посоветовав христианскому отцу не забывать розги, он тотчас спешит ограничить возможные передержки телесных взысканий: "Как только заметишь, что страх твоего выговора действует на ребенка, попридержись, ибо природа наша нуждается в послаблении". По отношению же к старшему возрасту и вовсе предлагает ограничиться кратким сердечным словом (о посещении общественных увеселений): "Сын мой, эти спектакли недостойны свободного человека. Если ты можешь поручиться, что ты не услышишь и не увидишь ничего непристойного, то можешь пойти. Но невозможно там не услышать непристойностей. А таковые вещи недостойны твоего взора". И заключает: "Говоря это, нежно поцелуй сына, заключи его в твои объятия, показывая ему любовь свою. И так успокой его", - таким образом отдавая любви приоритет над дисциплиной и отвлеченной этической нормой.
Еще менее святителя можно заподозрить в моралистической узости и пресном отношении к жизни. Нет, его златые уста готовы петь оды творению. Но по-настоящему прекрасным, заслуживающим одобрения является то, что чисто и не несет на себе печати греха. Проповеди Иоанна становятся школой, прививающей христианину основания нового благородства и вкуса. "Как румянеет белое лицо и какую производит приятность, когда краска стыдливости разливается по нему! Не в теле красота, но красота тела зависит от того характера, который отпечатлевает душа в формах тела. Если душа радуется, то розы рассыпает по ланитам; если печалится, то отнимает красоту у тела и облекает его в черную одежду, и если постоянно находится в безудержном веселии, то и тело бывает слабо и бессильно. Если душа бывает объята завистью, то и на тело разливает бледность, если исполнена бывает любовью, то и телу сообщает особенную миловидность. Многие жены, не будучи красивыми, особенную приятность имеют от души; другие, одаренные отличной красотой, всю ее портили тем, что не имели приятности в душе...", - прочитывая эту возвышенную апологию женской привлекательности, нельзя не подивиться тому, что автором ее является человек самого строгого аскетического расположения.
И все-таки очевидное нравственное расстройство т. н. "христианского общества", двусмысленное положение Церкви, особенно по отношению к власть предержащим, а помимо этого величина поднятой на себя святителем задачи - утверждения взамен господствующего эгоистического нового психолого-культурного типа, человека совести, - передают проповеди и личной позиции святителя Иоанна оттенки тревожности и волевой твердости. "Из числа столь многих тысяч, - констатирует он, - нельзя найти больше ста спасаемых, да и в этом я сомневаюсь. Безопасность есть величайшее из гонений на благочестие, хуже всякого гонения... Никто не понимает, никто не чувствует опасности. Безопасность рождает беспечность, расслабляет и усыпляет души, а диавол умерщвляет спящих".
Златоуст видит себя словно бы стоящим посреди строения, объятого пламенем. Его проповеди - это не академичное изложение учения, но всегда вопль, исходящий из глубины души; предупреждение об опасности. Общее отступление представляется ему особенно непростительным во время, когда христианство, казалось бы, завоевывает полные возможности к проповеди и преобразованию нравов. Увы, в городе, носящем имя "христианской столицы", "Теополя" ("Божьего града"), "предпочтенного Богом", нигде нельзя встретить простого расположения и открытости, сострадания к нуждающимся, но фарисейство, корысть и зависть. Взамен милостыни и устройства жизни беднейшей части жителей - пышные "раздачи", здравицы в честь императора, императрицы и высочайших особ, реки вина на площадях, языческие пляски и развлечения. Вместо покрова молитвы и аскетических упражнений - праздность и брожение по монастырям, воинствующие толпы чернецов, разбитые на партии и готовые сталкиваться друг с другом из-за произнесенного неосторожного слова или дележа привилегий. Что ни храм, то отсутствие дисциплины у клириков, беззастенчивая торговля церковными должностями, попустительство к любому из нравственных преступлений...
Во всем этом Иоанн оказывается чужим, пришельцем как бы из иного мира. Ему вспоминается Григорий и его сарказм в отношении порядков Константинополя: "Не знал я, что и мне надобно ездить на отличных конях, блистательно выситься на колеснице. Что и мне должны быть встречи, приемы с подобострастием, что все должны давать мне дорогу и уже издали расступаться передо мной, как пред диким зверем". Однако, в отличие от своего предшественника, созерцательного и предпочитающего уединение, Златоуст представляет "общественный" тип и переживает прилив энергии как раз в гуще народа, в перекрестье сотен обращаемых к нему взглядов. Подвижничество его - это своеобразная аскетика совести, и призывая каждого быть христианином на своем месте, он сознает необходимость быть первым в этом, в соответствии с патриаршим званием.
Оценивает ли святой при этом силы, возможное и невозможное для себя как для отдельно взятого человека? Поступает ли прагматично, когда в одиночку вступает в борьбу с миром? Нет, но действует от имени целой Церкви и во имя Церкви, воодушевляется примером первых благовестников, которые пронесли Евангелие от берегов Атлантики до Индии, считая себя призванным к продолжению апостольской миссии. "Достанет и одного человека, обуянного праведным рвением, чтобы исправить целый народ", - говорит он. И подчеркивает, что ключом ко всему следует считать исправление нравов внутри христианской среды: "Никто не остался бы вне Церкви, если бы мы были действительными христианами".
Заступая на Константинопольскую кафедру, Иоанн не предпринимает внешних реформ, не занимает позиции строгого администратора и, тем паче, не выступает главой какого-нибудь нового политического лагеря, добивающегося влияния при дворе и нужных решений. Вся власть его ограничивается запретами пышных пиров и приемов у себя в резиденции и праздного хождения монахов по городу. Остальное - это пример собственной сосредоточенной жизни, Литургия и проповедь, совершаемые с полной отдачей. Кажется, что это в нем самом разворачивается невидимое сражение за истину, и судьбы византийского мира и Церкви определяются его внутренним выбором.
По существу, все так и есть. Сюжет с бесконечными интригами против святителя, недоброжелательством царицы, коварством епископов, который приходит в финале к собору "под Дубом", осуждению Златоуста и двум ссылкам его - до известной степени внешний и не представляет подробного интереса, а только дает лишнюю иллюстрацию к словам Христа: возненавидят вас люди и отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого (Лк.: 6;22), и апостольским: все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы (2 Тим.: 3;12). Но зато Златоуст и все христианство в его лице одерживают в этом принципиальную победу.
Церковь живет Евангелием и принадлежит Христу, а не империи или общественному мнению. Данная, как представляется теперь, простая мысль была для современников святителя далеко не такой очевидной. Год от года за державной помпезностью отходила в тень, подчинялась "политической целесообразности" менее организованная и броская жизнь христианской общины. Психологически главным полюсом притяжения оставался полюс имперский. Также и в гражданской сфере торжествовала старая идея морали как "общественного приличия" и "общественной нормы", лишь отдаленно напоминающая христианское учение. Церковность, как у нас в Синодальный период, оказывалась заслонена "священным христианским царством". Шесть лет самой настойчивой проповеди Златоуста в византийской столице становятся переломными. В общем сознании они воскрешают значение Церкви как особой реальности и источника Божественного закона. В слове святителя христианство напоминает, что имеет свой голос и самостоятельное служение. Оно также указывает на право нравственного суда над происходящим. Как никому другому, Иоанну Златоусту удается подчеркнуть достоинство христианства и положение его над суетой мира.
Жизнь двора, поведение власть имущих вызывают в его речах самую резкую отповедь. В то же самое время святитель не борется против власти, не начинает своей игры. Для высокого сановника и простолюдина он всегда представляет одно - пастыря и проповедника правды Христовой. "Христос ввел Свои законы не для ниспровержения общего гражданского устройства, но для лучшего его исправления, и вместе хочет научить, чтобы мы не предпринимали лишних и бесполезных войн. С нас достаточно тех козней, какие строятся против нас за истину, а лишних и бесполезных испытаний присоединять не следует", - таково кредо святителя.
Непредвзятая и стойкая позиция его с течением времени завоевывает симпатии и даже производит среди горожан нечто наподобие движения протеста. Но сам Иоанн не желает противостояния, даже в свою поддержку. Вести о незаконном удалении его с кафедры народ встречает бурным негодованием, друзья умоляют не оставлять столицу. Но Златоуст отвечает: "Церковь Иисуса Христа не мной началась и не мной кончится", - показывая этим, что годы, проведенные в Константинополе, не переменили его внутри, оставили целиком свободным от самолюбия и мирской борьбы.
"Слава Богу за все!" - с такими словами 14-го сентября 407 г. он, всеми оставленный, оканчивает жизнь в отдаленном изгнании. Однако нравственная победа его и поражение противников открываются скоро. Спустя десять лет, в 417 г. Церковь признает клеветническими обвинения в его адрес. Возвращение же святителя в столицу в гробу в 438 г. совершается уже как победное шествие. Оно напоминает собой революцию - но такую, где торжествуют не месть, разделение или зависть, но истина, покаяние и любовь.
Эпоха Трех святителей выдалась напряженной и сложной. Она до краев была наполнена событиями, стремительными переменами, требующими от Церкви принципиально иных умений, ритма, быстроты ответной реакции, степени завершенности учения, способности к координации и пр. Сторонний наблюдатель, вставший над временем, наверняка удивился бы, сравнив церковное устройство, обряд и содержание христианской проповеди в начале столетия и в самом конце его. Тем более, с разных сторон объясняют христианство насыщенный философскими терминами текст Символа веры и строки Евангельской Нагорной проповеди. Протестанты из этого различия выводят теорию отступления от первоначальной, чистой Евангельской веры. Для нас, православных, тот же переход освящается именами и деятельностью таких высоких подвижников и выдающихся учителей, как Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, и выглядит как неизбежная, спасительная даже эволюция исповедания, "перемена мехов" - общественно-культурной и вероучительной оболочек христианства - в которые без потерь переливается вино Божия Слова.
"Горькое и терпкое, яже ко спасению лечеб усладиша, - говорится в каноне Трем святителям, - мудрыми словес ученьми же, и хитростьми, и благодатьми, душ Божественнии лечителие..." (песнь 5). Как лекари смешивают лекарство со сладостью, медом в снадобье, необходимое больному для выздоровления, так и учители-богословы обходительно действуют в отношении Церкви. Горькое и терпкое - это Евангельские истины, с трудом, как бы через силу воспринимаемые слабым сознанием, как бы чересчур резкие на вкус, "концентрированные" с мирской точки зрения. Будучи же растворены "ученьми, и хитростьми (не лукавством, конечно, но мудростью), и благодатьми" таковые воспринимаются проще и приносят благой результат.
В современном ключе Трех святителей, пожалуй, следовало бы назвать смелыми реформаторами. Не красного словца ради богослужебный канон праздника отзывается об учении их как о "третьем завете". В самом деле, масштаб предпринятых ими нововведений в догматике, богослужении, каноническом праве, церковном управлении очень велик и зримым образом меняет историческое лицо христианства. Но что объяснит или опровергнет движение святого ума, постоянно имеющего перед собой сверхъестественную, Божественную истину, - истину, ускользающую от нас, стремящихся всякий раз поставить на ее место идеологию, принципы и обычаи? Реформы вселенских учителей и святителей, во всяком случае, были бесконечно далеки от реформаторства и революционности, о которых рассуждают теперь. Равно как мужественное отстаивание ими апостольской чистоты веры мало напоминает "консерватизм" и "традиционализм" в их нынешнем виде.
Собрание Трех святителей - своеобразная визитная карточка православного исповедания, "Символ святости" его. Говоря о человеческих, персонифицированных аспектах традиции, удобней всего передать таковые сочетанием образов Василия, Григория и Иоанна. "Разделеннии телеси и совокупленнии духом", "по дванадесяти трие апостоли", - отзываются о них песнопения праздника (стихиры на "Господи, воззвах..."). Неслучайно, в следующие века восточное богословие одним из критериев истинности избирает согласие и преемство с учением их. Напротив, непочитание Трех святителей всегда выдвигается как обвинение ложных учений. То же и в спорах с латинством - Константинопольский патриарх Михаил Керуларий сообщает в Антиохию о западных богословах: "Святыя и великия отца наша и учителя Великаго Василия и богослова Григория, Иоанна Златоустаго не счиняют с святыми ни учения их приемлют".
На Русь почитание Трех святителей распространяется рано. Уже в памятниках XI в., такие как "Стязание с Латиною" митрополита Георгия и послание митрополита Никифора к Мономаху, упоминается о заслугах их перед Церковью. Христианское имя Василий в память святителя Василия Великого принимает просветитель Русской Земли равноапостольный князь Владимир. Прославляя своего небесного покровителя, он строит несколько храмов в его честь. Трехсвятительские храмы появляются на Руси в XIV-XV вв. Первый из них - это московский храм Трех Святителей на Кулишках, заложенный в 1367 г.
Почитаемыми святынями являются мощи вселенских учителей. Глава святителя Василия с древних времен хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, десница - в алтаре храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Мощи Григория Богослова и Иоанна Златоуста многие века пребывали в Константинополе. В 1204 г. после взятия города крестоносцами их вывезли в Ватикан. Спустя 800 лет, в 2004 г., Папа Римский Иоанн Павел II объявил о намерении вернуть реликвии в Константинополь. 27 ноября 2005 г. состоялась торжественная церемония передачи их Вселенскому Патриарху Варфоломею и возвращения святынь на Босфор.
Чествование Трех святителей 30 января / 12 февраля традиционно считалось одним из важнейших зимних праздников. В этот день в ознаменование особых заслуг великих вселенских учителей в храмах духовных училищ, семинарий и академий, некоторых соборах Москвы и Санкт-Петербурга Литургия совершалась целиком на греческом языке. В качестве Евангельского чтения на праздник богослужебным Уставом назначено: "Тако да просветится свет ваш пред человеки, да видя добрые дела ваши, люди прославили Отца вашего, Который на небесах..." Воистину, даже на фоне общего высокого подвижничества, "золотой цепи святости" в Церкви личности Василия, Григория и Иоанна кажутся "светозарными". Не только для современников, но и для всей христианской истории они являют собой нечто необычное и притягательное. Не потому ли, что в образах Трех святителях нами интуитивно угадывается наивысшая точка подъема человечества, революция духа, раскрывающая тайну "Царства Божия внутри нас" - развернутая в культурном и мировоззренческом измерениях, полнокровная реальность Евангелия?..
Тропарь Трем святителям, глас 4
Яко апостолам единонравнии и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.
Кондак, глас 2
Священныя и боговещанныя проповедники, верх учителей, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и упокоение; труды бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия, Едине прославляяй святыя Твоя.
- У св. Василия Великого, кроме него самого, прославлены Церковью шестеро ближайших родственников: бабка, прав. Макрина Старшая, мать, прп. Емилия, двое братьев: свт. Григорий Нисский и свт. Петр Севастийский и двое сестер: прп. Макрина Младшая и прав. Феозевия. В семье св. Григория Богослова, кроме него самого, почитаются святыми отец, мать, брат и сестра: свт. Григорий Назианзин Старший, прав. Нонна, прав. Кесарий и прп. Горгония. Иоанн Златоуст был единственным ребенком Анфусы и рано умершего Секунда; мать его причислена к лику святых праведных жен.
Андрей Рогозянский
Русская народная линия