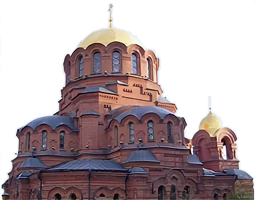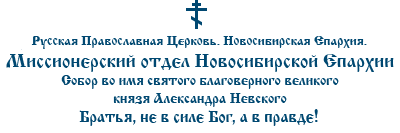[15.04.2025] Связующие начала идеологического синтеза Александра Дугина
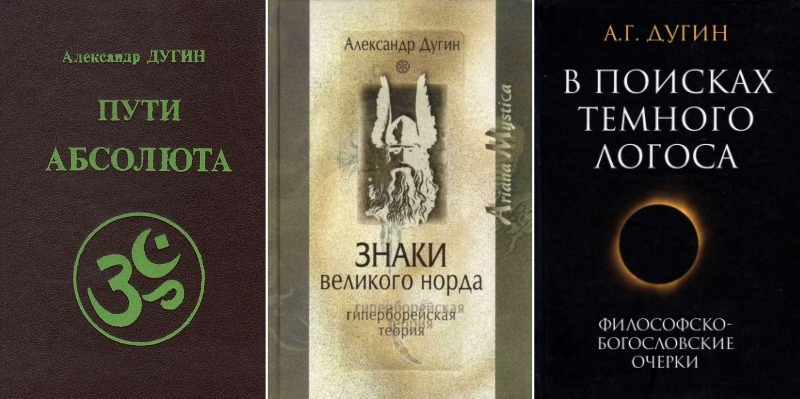
Тезисы доклада на семинаре Русского общества МГУ «Основные проблемы идеологических построений Александра Дугина», прошедшего 28 февраля 2025 года в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ.
1. Воинствующий иррационализм и четыре предмета отрицания в учении А.Дугина.
Несмотря на то, что активная идеологическая деятельность Александра Гельевича Дугина продолжается уже более тридцати с лишним лет, а собрание его отдельно изданных книг давно превзошло число восемьдесят, с нашей точки зрения, в развитии самого учения Дугина не было никакой “эволюции”, поскольку в своих сущностных аспектах оно никогда не менялось, а только лишь обращалось к новым источникам, новым темам, новым понятиям и пыталось привлечь новых концептуальных союзников и попутчиков.
Основным методологическим подходом Дугина является воинствующий романтический иррационализм, позволяющий ему не ограничивать себя рамками какой-либо догматической ответственности, а оставлять открытыми всевозможные мировоззренческие “шлюзы” и “отходные пути” для перехода к иным политическим и риторическим позициям. При этом Дугин никогда публично не осуждал свои прежние книги и идеологические построения, которых он придерживался многие годы.
Мировоззрение Дугина в большей степени строится не на утверждении, а на отрицании четырех исторических явлений, между которыми он находит прямую взаимосвязь:
1) авраамического креационизма,
2) основанной на авраамическом креационизме цивилизации Запада,
3) порожденной Западом цивилизации Модерна, иначе называемой “современным миром”,
4) идеологии классического и современного либерализма.
Практически всё, что способствует дискредитации, унижению и уничтожению этих позиций, может быть использовано Дугиным, включая построение ситуативных и сколь угодно экзотических идеологических конструкций.
2. Позитивные принципы в учении А.Г.Дугина.
Основу учения Дугина составляет эзотерическая метафизика “интегрального традиционализма” в его авторской интерпретации. Для обстоятельного ознакомления с этим метафизическим учением необходимо ознакомиться со следующими работами Дугина: «Пути Абсолюта» (1990), «Метафизические корни политических идеологий» (1991), «Крестовый поход Солнца» (1995), «Метафизика Благой Вести» (1996), «Орден Илии» (1999). В этих работах прослеживаются две основные метафизические тенденции, сущностно несовместимые друг с другом и поэтому образующие главное противоречие дугинской эзотерики. С одной стороны, Дугин проповедует метафизику манифестационизма, который он противопоставляет авраамическому креационизму как наиболее адекватное описание метафизической картины мира в “интегральном традиционализме”. Манифестационизм утверждает, что всё существующее бытие – это результат многоступенчатого, иерархического проявления (манифестации) безличного метафизического сверхбытия, трансцендентного Абсолюта. В этом отношении между трансцендентным и имманентным началом нет непреодолимой границы, и в конечном счете весь мир является внутренне нерасчленимым единым целым (холосом), вплоть до оправдания мистического монизма, единства духовного и материального. С другой стороны, Дугин периодически указывает на некий конфликт внутри самого Абсолюта, на извечное противостояние двух равных метафизических начал, условно “бытия” и условно “небытия”, что делает его метафизику сущностно дуалистической, аналогично гностическим и манихейским учениям.
Например, в книге «Метафизика Благой Вести» Дугин так объясняет возникновение мира: “Вступление Божества в Бытие, а затем и в Проявление, его “кенозис”, приобретают здесь качество “необходимости”, “цели”, переставая быть просто одной из возможностей Абсолюта, простым доказательством его изобилия и всемогущества и становясь выражением тайной стороны Абсолюта <тайной от кого? – А.М.>, его внутреннейшего сокровенного зерна. <…> Так троическая метафизика косвенно сообщает о загадочном конфликте, произошедшем в лоне Трансцендентного, где столкнулись между собой высочайшие уровни Абсолюта, разошедшиеся во взглядах на цель, смысл и качество своего собственного присутствия”.[1]
Оказывается, что Абсолют нуждается в порожденном им мироздании, а также в катастрофе грехопадения: “Творение, грехопадение и Спасение одинаково необходимы абсолюту и неотъемлемы от него, так как они выражают полноту его кенотической жертвенной ориентации”.[2] Следовательно, мир по Дугину не сотворен Богом-Личностью “из ничего”, как утверждает православное христианское вероучение, а проявлен (манифестирован) из безличного Абсолюта, но при этом сам Абсолют оказывается внутренне ущербным и нуждающимся в этом проявлении.
3. Миф Интегральной Традиции и миф о Модерне.
В основе интегрально-традиционалистского мировоззрения заложен всеобъясняющий миф о некой “Интегральной Традиции”, которая когда-то господствовала в земном мире, но со временем распалась на множество религий и частных религиозных традиций. Стоит заметить, что в представлении об “Интегральной Традиции” и соответствующем “традиционном обществе” у Дугина нет внятного объяснения, когда именно произошел их распад: это “традиционное общество” описывается либо как до-исторический земной рай, как идеальный “золотой век” человечества, либо как исторически идентифицируемое архаическое общество, возникшее уже после утраты земного рая. Как и во многих подобных случаях, амбивалентность этого понятия позволяет Дугину легко “жонглировать” им в своих концептуальных рассуждениях.
Из мифа об “Интегральной Традиции” закономерно следуют определенные религиозно-политические позиции.
Во-первых, это фактический гиперэкеуменизм и гиперсинкретизм “справа”, когда любые “традиционные религии” и любые “сакральные традиции” могут быть признаны как равно истинные и равно спасительные, что прямо противоречит православному христианству, с которым себя идентифицирует Дугин. При этом среди всех, наиболее известных представителей интегрального традиционализма православных христиан практически не было. Основатель этого учения Рене Генон был французским католиком, который отрекся от христианства и принял ислам суфийского толка. Основатель политического традиционализма, итальянец Юлиус Эвола, также отрекся от христианства и начал проповедовать оккультизм и неоязычество. Единственный интегральный традиционалист, бывший православным по рождению, румын Мирча Элиаде, исповедовал глубоко синкретические взгляды и православное христианство было для него лишь одной из многих религий.
Во-вторых, для политического “традиционализма” это готовность признать любые религиозные, мистические и философские учения, подрывающие авраамический креационизм и парадигму Модерна, как “профанного” мира. Именно отсюда столь свойственное Дугину позитивное обращение к дионисийству, гностицицизму, ницшеанству, “пути левой руки”, вплоть до современного сатанизма (телемизм Алистера Кроули), и неоднократные пассажи в его работах, оправдывающих падшего ангела, своего рода, «сатанодицея» или «дьяволодицея».
В-третьих, для политического “традиционализма” это также идея стратегического или даже сущностного альянса или синтеза крайне правых, консервативных, и крайне левых, революционных сил, и готовность заигрывать с обеими полюсами. Обратим внимание: например, в 1998 году Дугин открыто поддерживал старообрядчество Белокриницкого согласия и даже выступил на соборе Русской православной старообрядческой церкви (20.08.1998), где среди прочего заявил: “Я глубоко убежден, что Истина Древлеправославной Церкви имеет не просто этнографическое, локальное значение. Эта истина универсальная, вселенская, призванная сообщить самое важное и глубокое откровения каждому живущему на земле. Для возрождения же России староверие играет вообще ключевую, центральную роль”. И в том же году Дугин выпускает №3 альманаха «Милый Ангел», где впервые в России публикует перевод своеобразного катехизиса сатаниста Алистера Кроули «Книгу Законов» и свою статью с оправданием его позиций «Учение Зверя».[3] И такая противоречивая деятельность для Дугина совсем не затруднительна, потому что она напрямую проистекает из его собственных метафизических позиций.
4. Миф Великой Вечной Войны.
Вслед за системообразующим мифом об “Интегральной Традиции” другим ключевым мифом в мировоззренческих построениях Дугина является миф некой Великой Войны, которая начинается с самим бытием и продолжается всю историю человечества. На экзотерическом уровне это война сил “Традиции” и сил “Модерна”, сил “Востока” и сил “Запада”, в геополитической проекции – сил “Суши” и сил “Моря”, “теллурократии” и “талассократии”, “Евразии” и “Атлантики”, “евразийства” и “атлантизма”. Но, как уже было замечено, на эзотерическом уровне это война коренится в конфликте самого внутрибожественного бытия, некоего бытия и небытия, воплощается в войне ангелов и духов, причем, по Дугину нельзя сказать, что верные авраамическому Богу-Творцу ангелы безусловно правы, а восставшие против него, падшие ангелы безусловно неправы. Проясняя полюса этой великой метафизической войны, Дугин периодически выстраивает либо непримиримо бинарные, либо более сложные, “диалектичные” тернарные оппозиции.
В работе «Метафизические корни политических идеологий» (1991) Дугин проповедует противостояние трех метафизических идеологий: 1) “Полярно-райской”, отражающей подлинно духовное, вертикальное, иерархическое, интегрально-традиционалистское мировоззрение, 2) идеологии “Волшебной Материи”, отражающей ущербное мировоззрение магического материализма, и 3) идеологии “Творец-Творение”, воплощенной в авраамическом креационизме. Заметим, что еще в текстах 90-х годов Дугин несколько колебался в вопросе о том, что больше способствовало возникновению профанного мировоззрения Модерна — магический материализм “Волшебной Материи” или теистический креационизм авраамических религий. Но общая тенденция была весьма заметна: именно креационизм стал главной мишенью его критики, в то время как магический материализм “Волшебной Материи” все больше оправдывался как всего лишь деградированная версия полярно-райской теории. Отсюда возникла идея общей концептуальной платформы для этих идеологий – метафизики манифестационизма, которая примиряет обе крайности и объединяет их против общего врага: метафизики креационизма. Эта бинарная оппозиция изложена в работе «Крестовый поход Солнца» (1995), где также достаточно подробно проговорено, что если полярно-райская идеология порождает нацизм и фашизм, идеология магического материализма – социализм и коммунизм, то авраамический креационизм порождает современный либерализм. Несложно сделать неизбежный вывод: истинный путь состоит в единстве крайне левых и крайне правых, в формировании новой право-левой идеологии, что стало метафизическим обоснованием идеи “консервативной революции” и всех ее самых экстравагантных производных, вплоть до национал-большевизма. Именно в развитии этой позиции Дугин стал идеологом и активным соорганизатором Национал-большевистской партии (НБП Э.Лимонова), в частности, написав программный текст «Метафизика национал-большевизма» (1997).
Между тем, еще в самом «Крестовом походе Солнца» Дугин пишет о христианстве как о компромиссе креационизма и манифестационизма, причем на уровне самого Символа веры: “в никейском символе закреплены постулаты «эллинской» линии богословия <…> – догмат о божественности Сына, о его нетварности, об Отечестве первого лица Святой Троицы, <…> Но все же есть в нем и некоторые ограниченные компромиссы с иудео-христианской линией – Бог-Отец также назван Творцом, акцентируется человеческая природа Христа и т.д.”[4] Более определенно это понимание христианства как уникального “третьего пути” между креационизмом и манифестационизмом Дугин формулирует в книге «Метафизика Благой Вести» (1996), так что его бинарная оппозиция вновь становится тернарной. И эту же линию он развивает в статье «Орден Илии» (1998), где уже противопоставляет христианству не только “радикальный” авраамический креационизм и манифестационизм, но даже некую совокупность недохристианских манифестационистских учений в иудаизме, исламе и парахристианском гностицизме, как будто ему обязательно нужно выстраивать новые оппозиции, в данном случае уже совсем специфические. Однако в последующих статьях и лекциях, собранных в сборнике «Философия традиционализма» (2002), Дугин явно возвращается к бинарной оппозиции креационизма и манифестационизма, однозначно предпочитая и превознося последний как общее определение всего интегрально-традиционалистского мировоззрения. Здесь же Дугин пытается придать “традиционалистскому” учению научно-философский флер и описывает его как очередной вариант структурализма, своего рода структуралистской мифологии, антропологии и психологии. Аналогично построениям К.Г.Юнга или К.Леви-Стросса. Для этого Дугин вводит понятие “язык” или даже “метаязык” “Традиции”, который оказывается единым “холистским ансамблем”, где нет категорического разделения на свет и тьму, добро и зло, истину и ложь. Таким образом, “традиционалистский” манифестационизм здесь доходит до абсолютного иррационалистического холизма, антитезой которого выступает рационалистический “язык” или даже “метаязык” “Модерна”, основанный на аналитических различениях и разделениях.
Постоянная критика классической логики и европейского рационализма для Дугина имеет не только отвлеченно-теоретическое, но и жизненно важное значение, поскольку любой логичный, последовательный, предметный анализ его философских и идеологических построений неизбежно обнаружит их сущностную противоречивость и аморфность, и поэтому, в полном соответствии с романтической традицией мысли, Дугину проще осудить классическую логику и европейский рационализм, как некие учения, слишком неадекватные для понимания и описания столь сложного “холистского ансамбля” Традиции.
Также необходимо заметить, что миф о великой метафизической войне для Дугина возводит саму войну в настоящую самоценность, которая оказывается важнее, чем те цели, которую эта война преследует. Дугин не раз повторяет тезис Гераклита “война – отец всего” или Эрнста Юнгера “война – наша мать”, и эта позиция, как ни что иное, сближает учение Дугина с любыми милитаристскими идеологиями, подобно нацизму и фашизму, для которых насилие, агрессия и террор были самоценным проявлением “воли к жизни” и “воли к власти”, а не временными, вынужденными и досадными средствами для наведения порядка. Например, в своей книге «Четвертый Путь» (2015) Дугин отдельную главу называет «Ценность войны», где среди прочего утверждается: “Консерватор <…> не должен лгать, для него предпочтительней война, а не мир”[5].
5. Священная “Ноомахия”: война “трех Логосов”.
Последнюю версию великой метафизической войны Дугин изложил в теории извечной “ноомахии” (“войны ума”), проходящей между тремя “логосами”: “светлым логосом Аполлона”, “темным логосом Диониса” и “черным логосом Кибелы”. Все три “логоса” проявляются в каждой мировой и национальной культуре, формируя своеобразие локальных “логосов”, и соответствующему культурологическому обзору Дугин посвящает 25 томов свой «Ноомахии», где последние три тома посвящены “Русскому Логосу”. Зачем Дугину понадобилось введение той тернарной оппозиции? С нашей точки зрения, по нашему предположению, Дугин здесь решал для себя, как минимум, две задачи – это унижение авраамического креационизма и освобождение дионисийства от ответственности за материализм.
Авраамический креационизм столь неприемлем для Дугина, что ставить его на один уровень с языческим манифестационизмом, как нечто равносильное и равно универсальное, представляется весьма сомнительным. Ведь если манифестационизм абсолютно прав и весь мир изначально был “холистским ансамблем”, то откуда произошел креационизм? Если допустить вариант, что креационизм стал результатом некоего внешнего Откровения, вторгнувшегося в этот холистский ансамбль, то тогда придется признать, что за креационизмом стоит некая метафизическая сила, более могущественная, чем манифестационизм, и, в конечном счете, более истинная, превосходящая весь этот холистский мир и его манифестационистский источник. Следовательно, для Дугина лучше девальвировать креационизм, как некое неприятное недоразумение, возникшее внутри манифестационистского мира и на его собственной почве. Поэтому подлинными полюсами “великой метафизической войны” Дугин объявляет некие “логосы” языческих архетипов, двое из которых уже давно знакомы европейской романтической традиции – это Аполлон и Дионис, аполлоническое и дионисийское начало, введенные в первой книге Фридриха Ницще «Рождение трагедии из духа музыки» (1872).
“Логос Аполлона” здесь фактически воспроизводит “полярно-райскую”, иерархическую идеологию, правый полюс манифестационизма. На первый взгляд, противоположный ему “Логос Диониса” должен был бы воспроизводить идеологию магического материализма, левый полюс манифестационизма. Но в таком случае Дионис был бы именно тем началом мироздания, которое отвечает за профанный материализм и все, что с ним связано. Но Дугину принципиально оправдать Диониса, то есть оправдать хаос, деструкцию, революцию, экстаз, безумное, бессознательное, как необходимые и неотъемлемые, органичные составляющие “холистского ансамбля” “Традиции”, где порядок и хаос это лишь две стороны одного целого. Поэтому по Дугину “логос Диониса” – темный, но еще не черный, и более того, Дионис оказывается универсальным богом, свободно вращающимся между всеми мирами и проникающим во все миры, не как антитеза статично-светлому Аполлону, а как его обратная сторона, как его своеобразный двойник, и вообще “друг”. Но поскольку Дионис и дионисийство не ответственны за разрушение традиционного миропорядка и возвышение материализма, то нужно найти некое третье начало из языческого пантеона, и им оказывается Кибела-Мать, или архетип Великой Матери, которая фактически воспроизводит идеологию магического материализма, “Волшебной Материи”, но только с существенным уточнением – это идеология “Волшебной Материи” без волшебства, идеология иссушенного, выхолощенного, пустого материализма. Именно черный логос Кибелы, таким образом, оказывается источником профанного Модерна и, более того, самого авраамического креационизма: “Великая Мать теоретически может помыслить иное, нежели она. Иным для хаоса будет Логос. Но этот Логос будет мыслиться Великой Матерью как нечто радикально другое, нежели он сама, как радикальная трансцендентность. В эту зону чистой трансцендентности, не компенсированной никакой имманентностью, попадает философия. И нельзя исключить, что первые интуиции радикального креационизма[6] и, соответственно, чистого монотеизма ведут свое начало именно из философии Великой Матери, из недр ее черного Логоса”[7]
Неизбежно возникающие вопросы о том, существовала ли когда-либо на самом деле эта великая Кибела-Мать, а также Аполлон и Дионис, и насколько все они действительно влияли и влияют на ход мировой истории, в контексте учения Дугина столь же бесперспективны, как и вопрос о том, где и когда существовала та Интегральная Традиция, от утраты которой происходят все проблемы человечества. Столь же бесперспективны вопросы о том, как все эти мифологические построения согласовать с православным христианством. Учение Дугина не нуждается ни в научно-историческом, ни в православно-богословском подкреплении, оно самоистинно и самоценно для самого себя, как любая религия, любая метафизика и любая мифология.
6. От Генона к Хайдеггеру, или конструкт “Русского дазайна”.
В 2010 г. Дугин опубликовал книгу «Мартин Хайдеггер: философия другого Начала»[8], где прямо заявил: “С середины 1960-х годов и по настоящее время в России длится «пустое», с философской точки зрения, время. В нем много чего случается, но ничего не происходит. Вопреки всему надо готовить новый виток русской философии, и начинать в этом вопросе следует с корректного понимания западной мысли. А западная мысль в своем высшем воплощении – это философия Мартина Хайдеггера”[9].
Стоит оговорить, что первые двадцать лет своей мировоззренческой деятельности Дугин только в очень редких случаях обращался к русской и тем более советской философии, как к хоть сколько-нибудь авторитетной и полезной в его собственных построениях. Подобно непримиримым марксистам XIX-начала ХХ века, Дугин многие годы выступал в России как своеобразный миссионер “единственно верного” учения Рене Генона и эксклюзивный промоутер некоторых экзотических направлений западной мысли, стратегически необходимых для распространения интегрального традиционализма: герметизма, ариософии, телемизма, консервативной революции, геополитики, теорий “новых правых” и “новых левых” и т.п. В русской мысли Дугина закономерно привлекали идеи евразийцев и национал-большевиков, и он также включил их в свою пропаганду, но все наиболее заметные, магистральные линии развития русской интеллектуальной культуры и философии, Дугиным в основном, за редким исключением, игнорировались или даже порицались, как порождение “профанного” Модерна, что принципиально ограничивало его пропагандистские возможности.
Но в 2010-е годы Дугин все-таки расширил свои риторические стратегии и на осмысление русской классической культуры в целом и русской религиозной философии в особенности. Если еще в 1995 году он презрительно писал о “многоголовой гидре чахлой софиологии”, то в «Ноомахии» он уже находит позитивные элементы в учении В.Соловьева, С.Булгакова, П.Флоренского и других русских софиологов. Но никто из русских философов для Дугина не сомасштабен Рене Генону, как источнику единственно истинного учения, а ключом к подлинному развитию русской философии должна быть философия Мартина Хайдеггера. Более того, по Дугину русской философии практически не было, а чтобы она состоялась, получила некую легитимацию как полноценная философия, она должна обратиться к Хайдеггеру: “Если Хайдеггер станет для нас тем, чем стали Гегель и Маркс в веке XIX, то мы получим легитимацию для второго русского захода в философию”[10].
Возникает вопрос: почему именно Хайдеггер, а не сам Генон? Дело в том, что учение Генона как такового сводится к описанию строго иерархической, метафизической картины мира, максимально напоминающей очередной извод неоплатонизма, но только со сравнительно-религиоведческими экскурсами в индуизм, суфизм, каббалу, герметизм и т.д. Это абсолютно универсалистская, статичная, холодная, “аполлоническая”, аполитичная, умозрительная картина, в которой нет никакого места для мировой и русской истории, для какого-либо партикулярного начала, национального или регионального, нет места никаким человеческим переживаниям и эмоциям, и для борьбы с четырьмя вышеобозначенными врагами Дугина, равно как для борьбы с чем бы то ни было философия Генона вообще ничего не дает. Учение Генона можно просто принять как истинное и ради его пропаганды выстраивать какие-либо стратегии, но использовать ее как средство дискредитации чего-либо и, тем более, как основу для возвышения какого-либо национального начала совершенно невозможно. Последователь Генона, Юлиус Эвола, попытался создать политический традиционализм, но для этого ему пришлось разорвать со многими догматами генонистской ортодоксии, а получившееся в результате учение самого Эволы оказалось мистической идеологией консервативной революции, проповедующей “языческий империализм” и аристократическое “восстание против современного мира”. В отличие от аполитичного учения Генона, политическое учение Эволы как раз заточено на борьбу со всеми возможным врагами “Традиции”, но оно очень ограничено своим субъективным контекстом и совершенно неадекватно для России, где Дугин как раз создал свой “политический традиционализм”, несравнимо более широкий по своим стратегическим возможностям, включая обращение к левому радикализму и постмодернизму. Но в любом идеологическом строительстве перед Дугиным, как и любым идеологом, всегда возникает неизбежная проблема: как от общих благопожеланий и лозунгов перейти к конкретной созидательной программе, адекватной текущей исторической и политической ситуации? Дугин уходит от решения этой проблемы, не только потому, что, как можно было бы предположить, эта проблема более ответственная, приземленная и скучная для кабинетного идеолога, но прежде всего потому, что с нашей точки зрения такая конкретизация вынудила бы идти на компромисс во многих вопросах с современной реальностью (то есть с Модерном и Постмодерном), а также переходить от задач разрушения к задачам созидания, что в мировоззренческих стратегиях Дугина в принципе невозможно. Иными словами, для Дугина слишком рано говорить о созидании (если такая задача вообще возможна), ибо великая метафизическая война еще совсем не кончилась, и вражеские оплоты еще совсем не разрушены. И главным таким оплотом, стоящим на пути русской консервативной революции, по Дугину оказываются не просто какие-то ценностные установки Модерна, до сих пор принятые в России, а сам “язык Модерна”, “язык Запада”, язык классической, логоцентрической европейской метафизики, которым до сих пор почти бессознательно говорит русская интеллектуальная культура в целом и русская философия в особенности. Соответственно, русское сознание необходимо освободить от этого чуждого и неадекватного русской реальности языка, и именно для этого нужен Хайдеггер, как главный деконструктор “западного логоса”.
На первый взгляд, с консервативной и патриотической точки зрения, с требованием Дугина освободить русское сознание от какого-либо “западного пленения” вполне можно было бы согласиться. Действительно, философские вопросы о том, насколько мы осознаем тот язык, на котором мы говорим и мыслим, и насколько он адекватен для описания объективной реальности и специфических реалий русской жизни, для нашего самоописания, более чем оправданы. Но Дугин как будто бы игнорирует тот факт, что язык европейской философии и науки всегда развивался не по пути затуманивания каких-либо смыслов, а по пути уточнения, различения и прояснения понятий, и именно поэтому понятийный язык позднеантичной философии был использован Православной Церковью для формулирования собственных догматов, именно поэтому возник схоластический язык катехизисов и любая попытка сегодня составить “точное изложение православной веры” потребует не поэтических метафор, а точных формул и определений. По Дугину же необходимо отказаться от веками развивающейся понятийной системы европейской философии и вооружиться подходом Хайдеггера:
“Сущность этого подхода состоит: 1) в демонтаже влияния на язык и его структуры западноевропейской философии и метафизики (с их логикой, грамматикой, имплицитной онтологией и т. д.), т. е. в отказе от изложения философских тем в контексте того метаязыка, который западноевропейская философия выработала и утвердила за две с половиной тысячи лет своей истории; 2) в возврате к словам (вместо терминов, категорий, понятий) и их первоначальному внефилософскому смыслу, к их этимологии, их собственному дологическому и дометафизическому содержанию; 3) в выработке нового метаязыка для новой философии, который будет строиться на основании слов, вещающих о бытии, по траектории, радикально отличной от сообщений прежнего философского дискурса”[11]. Как использовать этот подход в русской философии? Через тезис Хайдеггера о том, что язык это дом бытия, а каждый живой язык является национальным, в основе своей кровно-почвенным: — “Язык, по Хайдеггеру, – это дом бытия. Русский язык есть дом русского бытия. Пребывая, русский дазайн пребывает в речи. В речи в первую очередь”[12].
А далее выясняется, что само русское сознание, по Дугину, сущностно иррационально и сам процесс мышления для него весьма затруднителен: “Русский – и начиная и не начиная размышлять – находится в вязкой среде нерасчленимой цельности. Самым обобщающим словом для определения этой «цельной среды» является «народ». Русский всегда мыслит и чувствует народно, не сам по себе, а посредством, внутри и по санкции народа. Поэтому, в частности, русский никогда не уверен до конца ни в том, что он мыслит правильно, ни в том, что он вообще мыслит. Не «эго» является отправной точкой его мировосприятия, и даже не индивидуальная душа. Мышление для русского – это процесс, источник и цель которого находятся за его пределами; он же – только период этого процесса, его середина, получающая смысл не в себе самой, а в тех истоках и целях, которые остаются сокрытыми и внешними. Поэтому русский человек скорее даже не мыслит в полном смысле слова, а догадывается, подозревает, пытается помыслить. Что-то другое мыслит сквозь русского человека, какая-то непонятная ему самому мысль пронизывает его, течет сквозь него. Но это мышление не умаляет ни усилий, ни значения русского человека для русской мысли. Напротив, только в таком слегка страдательном качестве русский человек остается и даже еще в большей степени становится русским. Русский мыслит, страдая от мышления: мышление и есть страдание для него. Но мысля почти вопреки самому себе, русский человек конституирует «народ», который и становится общим названием для всего поля этой тяжелой и непонятной ни самой себе, ни людям мысли. Народ – эта мыслительная цельность, которая очерчивает горизонт страдания, недоумения и вязкого расползания русской жизни. Именно в народе и следует располагать русский дазайн. <…> Русские, со своей стороны, цельность представляют только совокупно, а по одиночке они – лишь части, лишенные самодостаточного смысла. Эта изначальная конституирующая совокупность: «большой человек» и есть «народ»”[13].
Мы позволяем себе привести эту обширную цитату, потому что в ней заключается весь смысл дугинского хайдеггерианства: строить мысль не от общих категорий и смыслов, а от некоего иррационального и суверенного “русского дазайна” (как Хайдеггер хотел мыслить от немецкого Dasein`а), который не нуждается ни в логике, ни в понятиях, ни, тем более, в каких-либо объективных фактах и универсальных ценностях. Причем, мало того, что “русский дазайн” слабомысленный, но он также оказывается и весьма слабовольным: “русский дазайн и не склонен к порождению объектов, к творению вещей, к техническому переустройству мира. Чтобы он на это пошел, его надо жестко принудить. Тут мы сталкиваемся с двумя важными особенностями русского дазайна: слабость воли, нежная деликатность желания и стеснительность в конституировании внешнего мира как мира объектов. <…> Как не может быть русского субъекта, так и не может быть русского проекта”[14] Следовательно, “русский дазайн” по своей природе иррациональный, безвольный, аморфный и, конечно же, хаотичный: “Русское бытие пребывает в хаосе, в русской стране, в ниве, на русском поле. Оно совпадает с русским народом, который и есть живое представление живородящего хаоса”[15]. Отсюда Дугин призывает к развитию русской философии как “философии хаоса” или “философии русского хаоса”.
Вот почему Дугин сущностно не правый и не консерватор: для него хаос не менее ценен, чем порядок, а на самом деле, даже более ценен, как “Дионис” более ценен, чем “Аполлон”. Стоит ли замечать, что такой подход к философии совершенно органично сочетается с современным постмодернизмом, но на нем никак невозможно построить никакую философскую систему и хоть сколько-нибудь созидательную идеологию. Остается открытым вопрос, почему эти “оригинальные” авторские рассуждения выходят в книге, изданной под эгидой ведущего вуза страны, в 2021 году, в издательстве «Академический проект» “по разрешению кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова”.
7. Фантом “Четвертой политической теории”.
В 2009 году Дугин выпустил книгу под названием «Четвертая политическая теория» (2009), выдержавшую три издания[16]. В сравнении с прежними идеологическими брендами Дугина, такими как “консервативная революция”, “национал-большевизм”, “евразийство”, название этой теории удивляет своей сухостью и бессодержательностью, но, с нашей точки зрения, это вполне осознанное, стратегическое решение Дугина – найти максимально невзрачное название, которое бы не вызывало никаких негативных ассоциаций (разве что с “четвертым путем” саморазвития у Г.И.Гурджиева) и могло бы быть принято в академической среде. Еще в 90-е годы Дугин называл свою позицию “Третьим путем”, который был иным названием всего спектра консервативно-революционных движений, противопоставляющих себя либерализму (“первому пути”) и коммунизму (“второму пути”). Но, по всей видимости, Александр Гельевич смирился с тем, что понятие “Третьего пути” преимущественно отождествляется с нацизмом и фашизмом, и поэтому решил не просто “сменить бренд”, а в самом названии новой идеологии отразить ее альтернативную ориентацию не только по отношению к первым двум путям, но и по отношению к столь скандализированному “третьему пути”. В итоге с начала десятых годов адепты Дугина преподносят “Четвертую политическую теорию” как некое идеологическое откровение и новое слово не только в учении самого Дугина, но и всей политической мысли в целом. Однако даже при самом подробном изучении этой теории выясняется, что это все та же очередная версия “политического традиционализма” и “консервативной революции”, которые Дугин развивал с начала 90-х годов, все тот же “Третий путь”, отмежевавшийся от биологического национализма, расизма и этатизма крайне правых (нацистов и фашистов), но от этого не переставший быть именно “Третьим путем”, а вовсе не четвертым.
Далее, внимательная попытка выяснить, в чем заключается уникальное позитивное содержание “Четвертой политической теории” наталкивается на периодические объяснения, что она не столько утверждает какие-то позиции, сколько отрицает. Как пишет сам Дугин, “когда мы говорим о Четвертой Политической Теории, мы указываем не столько на то, чем она является, сколько на то, чем она не является. И это самое главное. Ее определение апофатично. Четвертая Политическая Теория направлена радикально против либерализма как ядра доминирующей идеологии (либерализм – это Первая Политическая Теория). Следовательно, Четвертая Политическая Теория – это воинственный и фронтальный антилиберализм (уже немало). Но далее – из самого названия – следует уточнение: это такой антилиберализм, который не тождественен по своей структуре ни антилиберальному коммунизму (Второй Политической Теории), ни антилиберальному фашизму (Третьей Политической Теории). Таким образом задаются мировоззренческие границы всего поля Четвертой Политической Теории, с одной стороны, чрезвычайно обширного, с другой – довольно конкретного”[17].
Со времен НБП любой идеологический проект Дугина был более-менее “воинственным и фронтальным антилиберализмом”, и в этом отношении “Четвертая политическая теория” не привнесла ничего нового. Однако для более подробного прояснения возможной новизны этой теории в самой книге есть существенное подспорье – это достаточно развернутая «Схема модельной типологии 4 Политической Теории», где в четырех колонках сравниваются позиции соответствующих теорий по 18-ти критериям[18], и именно в этой схеме хорошо видно, что если эта “четвертая теория” чем-то и отличается от “третьей”, так это большей фантасмагоричностью и утопичностью своих положений. Например, в разделе 7 про экономику позиция “Четвертой политической теории” сформулирована следующим образом: “Отмена частной собственности; подавление и уничтожение буржуазии, экономика в руках правящей духовной аристократии; экзистенциальная собственность <…>; новые формы обмена, сменяющие товарно-денежные отношения”[19]. В разделе 8 про нации и государства: Нация – реальность субъективная, буржуазная, исторически не необходимая; нация должна быть распущена, никакого национализма; нацияи современное Государство – буржуазные аберрации, подлежащие уничтожению”[20]. В разделе 12 про отношение к индивидууму и обществу: “Тотальное отрицание индивидуума как явления, развоплощение, реорганизованное спиритуальное общество как холистское целое вдоль вертикали небесного огня; Радикальный Субъект, сверхчеловек”[21]. И это только некоторые цитаты, коих вполне достаточно, чтобы понять идеологию специфику т.н. Четвертого пути, выдаваемого за что-то новое и оригинальное. Следовательно, никакой “Четвертой политической теории”, строго говоря, не существует, причем не существует именно как теории, а существует лишь очень невнятная заявка о намерениях создать такую теорию, на данный момент отличающуюся от трех своих оппонентов только лишь набором утопических (точнее, антиутопических) пожеланий, которые в лучшем случае можно назвать эпатажными и инфантильными.
Возможно ли во всех идеологических проектах Дугина обозначить общие, связующие принципы, неизменные на протяжении всей его политической деятельности? Конечно, такие принципы существуют и именно потому, что, как мы уже сказали в начале, никакой сущностной эволюции в учении Дугина не было, а было лишь обретение новых стратегических ходов, не столько идеологем, сколько стратегем. Обозначим эти неизменные принципы:
- “Политический традиционализм”: однозначный приоритет любой архаической традиции, реальной или вымышленной, перед любой моделью общества Модерна. Стремление сконструировать миф о единой “Интегральной Традиции”, как прообразе и внутреннем стержне всех “вторичных”, “инерциальных” сакральных традиций: “Инерциальная Традиция лучше, чем все формы Модерна, но хуже, чем интегральный тотальный традиционализм”[22]. Отсюда невнимательность к догматическим различиям, синкретизм и гиперэкуменизм “справа”. Предполагается, что новая традиционалистская элита своей волей установит новый религиозный миропорядок. Эта позиция напрямую отражена в Катехизисе Евразийского союза молодежи (ЕСМ, 2005): “Наша цель – абсолютная власть. Мы Союз Господ, новых повелителей Евразии. Мы утвердим свою волю суверенно, непоколебимо, безотзывно”, <..> “Все в Традиции прекрасно. Особенно то, что неразумно, непонятно, необоснованно, что превышает мелкий плешивый разум. Традиция полна ослепительного солнечного бреда, который надо принимать открытым сердцем – как он есть. Надо соблюдать все правила Традиции – особенно абсурдные. Только так мы поймем ее скрытую логику – которая пробудит в нас высшее крылатое существо, томящееся в теле как в темнице из мяса”, “Традиция во всем и всегда права. Современность во всем и всегда ошибается”.
- “Консервативная революция”, то есть восстановление “золотого века” или “традиционного общества” революционным политическим путем как единственным методом “политического традиционализма”. Но поскольку образ этого идеального прошлого постоянно отодвигается в глубь времен, то он абсолютно размыт и допускает самые различные фантазии: “все древнее обретает для нас ценность и убедительность уже потому, что оно древнее. Древнее – значит, хорошее. И чем древнее, тем лучше. Самым древним из творений является рай. К его новому обретению в будущем должны стремиться носители Четвертой политической теории”[23].
- Готовность использовать любые средства и методы в целях “консервативной революции”, включая сотрудничество с самыми разрушительными радикальными движениями, как религиозными, так и политическими. Дугин называет эту стратегию даосским принципом “седланием тигра” или телемитским “путем левой руки”, предполагающим погружением в мир хаоса и возглавление сил хаоса для достижения подлинного порядка, столь же абстрактного, как и вся “традиционалистская” утопия. Отсюда интерес к любому радикализму и особенно к “взрывоопасному” синтезу взаимоисключающих радикальных движений, например, национал-большевизму, а также к любым постмодернистским стратегиям в борьбе с Модерном.
- Геополитика “теллурократии”, воплощенная в евразийстве, и противостоящая “талассократии”, воплощенной в “атлантизме”. Восприятие Запада в целом и англо-американского мира в особенности как квинтессенции талассократической цивилизации, которая является бастионом всех анти-традиционалистских сил, в первую очередь, либеральных. Для победы над талассократическим Западом необходимо создать максимально масштабную Евразийскую империю с центром в России, которая должна быть плацдармом для мировой консервативной революции и полюсом притяжения всех антизападных и антилиберальных сил.
Обратим внимание, что каждый последующий неизменный пункт этого списка не самоценен, а служит стратегическим средством для достижения целей “политического традиционализма”, как и очень многие элементы мировоззренческого синтеза Александра Дугина. Если не видеть эту необходимую, логическую, причинно-следственную связь между различными идеологическими и политическими установками Дугина, то все его учение может показаться бессмысленной постмодернистской эклектикой, как очень часто его воспринимают его многие критики Дугина. Но с нашей точки зрения, нарочитое невнимание к деятельности Дугина и сведение ее к каким-то низменным мотивам – это наименее эффективная стратегия в обличении самого Дугина, которая никак не способствует разубеждению его сторонников и, тем более, его самого. С нашей точки зрения, еще в 90-е годы, Александр Дугин создал очень перспективный, универсальный, современный, интригующий мировоззренческий синтез, способный объединить представителей самых разных религиозных, философских и политических убеждений в борьбе против либерализма, западной цивилизации и самого проекта Модерна.
Заметными политическими преимуществами этого синтетического учения являются его идеологический универсализм (обращенность к самым разным мировоззренческим группам и типам), открытость к любым языкам и темам постмодернистской современности, а также ориентация на активную, в том числе агрессивную молодежь. Вместе с этим, на эти три преимущества приходится три существенных политических недостатка этого учения, ограничивающих его массовое влияние в современной России: 1) это его неизбывная эклектичность, аморфность, невнятность позитивной, созидательной составляющей, 2) это его неизменная эзотеричность, с отсылками к специфическим западным авторам и создающая впечатление недоговоренности, непрозрачности, “двойного дна”, 3) это его нескрываемый мизантропический антигуманизм и антиперсонализм, заведомо выводящий это учение за пределы хоть сколько-нибудь системной политики.
Объективности ради стоит заметить, что все эти свойства в ином восприятии могут оказаться весьма привлекательными достоинствами, но уж точно не у большинства психически здоровых взрослых людей, как православных, так еще и идущих на пути к Богу. Но какова бы ни была степень популярности этого учения, оно несовместимо с православным христианством, разрушительно для традиционной христианской и классической европейской культуры, включая русскую культуру, а его массовое влияние, как минимум, духовно опасно для Церкви и общества в России и любой другой стране. Предотвратить масштабное влияние учения Дугина возможно только путем его содержательного, компетентного, системного и открытого обличения со стороны самой Церкви и профессиональных гуманитариев. Только таким конструктивным путем, а не путем игнорирования и вульгарной “игры на понижение”, возможно своевременно остановить дальнейшее влияние этого лжеучения хотя бы на том уровне, на котором оно развивалось до сих пор.
Аркадий Малер
Катехон
[1] Дугин А. Метафизика Благой Вести. – М., 1996. С. 22.
[2] Там же. – С. 238-239.
[3] Дугин А. Учение Зверя // Милый Ангел. № 3. – М., 1998. С. 359-368.
[4] Дугин А. Крестовый поход Солнца. // Милый Ангел. № 2. – М., 1996. С. 60-61.
[5] Дугин А. Четвертый путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию. – М., 2015. Там же. – С. 143.
[6] Курсив наш – А.М.
[7] Дугин А. В поисках темного Логоса (философско-богословские очерки). – М., 2021. С. 631.
[8] Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. – М., 2010.
[9] Там же. – С. 218.
[10] Там же. – С. 7.
[11] Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. – М., 2010. С. 15.
[12] Дугин А. Мартин Хайдеггер: возможность русской философии. – М., 2011. С. 145.
[13] Дугин А. Мартин Хайдеггер: возможность русской философии. – М., 2011. С. 134.
[14] Там же. – С. 168.
[15] Там же. – С. 224.
[16] Дугин А. Четвертая политическая теория. – М., 2009. Дугин А. Четвертый путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию. – М., 2015. Дугин А. Четвертый путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию. – М., 2024.
[17] Дугин А. Четвертый путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию. – М., 2015. С. 21.
[18] Там же. – С. 61-66.
[19] Там же. – С. 63.
[20] Там же. – С. 63.
[21] Там же. – С. 65.
[22] Там же. – С. 66.
[23] Там же. – С. 38.